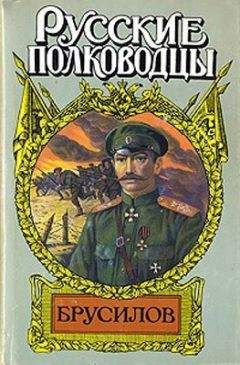— У нас давно известно, Алексей Максимович, — «все врут календари»[57]!
До Сарн они ехали поездом, потом в автомобилях по шоссе, потом свернули по проселку в жидкий сосновый лес. Машины встряхивало на корнях, мотало из стороны в сторону. За какой-то деревенькой, где стояла сотня оренбургских казаков, начинались болота.
Пошатнувшийся, черный от дождей высокий крест с бурыми клочками цветных тряпочек стоял у начала гати, ведущей к передовым линиям.
Казаки с сомнением поцыкали на легковые машины, заверяя шоферов, что им не проехать. Тут же стояли доверху заваленные какой-то военной поклажей, прикрытой брезентом, грузовики. Их собирались перегружать на тачанки и в торока казачьих коней.
— Прекратить это безобразие! — сказал Брусилов. — Трогайте!
И полез в кабину шофера передового грузовика.
Духонин, Каледин, Зайончковский и дивизионный генерал, на участок которого выезжал главнокомандующий, молча переглянулись, понимая, что спорить бесполезно. Начальник дорожного участка, перепуганный насмерть, лепетал, заикаясь:
— Ваше высокопревосходительство… смею доложить… дожди… дорогу размывает… не успеваем чинить… Загрузнете…
— Тем хуже для вас! — оборвал его Брусилов.
Машина загудела, колеса забуксовали. Игорь вскарабкался наверх, на поклажу, устроился спиною к кабинке, рядом с тремя солдатами-проводниками.
Сверху он видел, какая суматоха поднялась у околицы за головным грузовиком, как выехали на рысях вперед колонны казаки, за ними затарахтели по бревнам и сползли на обочину в топь несколько тачанок с дорожным инструментом, рабочими и начальником участка, как сел на коня тучный дивизионный генерал и в сопровождении адъютанта и двух казаков тоже опередил грузовик, где сидел Брусилов. Следом за дивизионным тронулась легковая машина главкома, теперь порожняя. Генералы сели на две легковые в хвосте каравана.
Шел нескончаемый в этих краях мелкий весенний теплый дождь. От брезента вился парок, солдаты, накинув шинели на головы, дремали. Машина то и дело штопорилась, тогда, несмотря на дождь, налетали голодной ратью комары, язвили нещадно. Когда заглушалось спазматическое дыхание мотора, его сменял органный лягушачий хор.
— Как заливаются! — доносился из кабины восхищенный голос Алексея Алексеевича. — Соловьи так не умеют, те красуются, а эти — самозабвенно…
Шофер вылезал из кабины, долго возился под брюхом мотора, вертел ручкой, машину встряхивало, сердце ее начинало биться и опять замирало, шофер ругался шепотом, стыдясь главкома.
Из кабины долетал до Игоря дымок брусиловской вертушки «Месаксуди».
— А ты не шепчи, ты громко! — кричал Алексей Алексеевич шоферу. — Облегчи душу. А ты — как там? — обращался он к Игорю. — Кусают, подлецы?
— Кусают, — откликался Игорь.
— Спустись, возьми табачку, закури, — помогает.
Игорь прыгал на шаткие бревна, рыжая грязь забрызгивала его до пояса, он заглядывал в кабину, видел улыбающееся, безмятежно-спокойное лицо своего главкома, и ему самому становилось легко на душе.
— Опять застряли, — говорил Игорь, морщась от дыма и неумело затягиваясь полным ртом.
— Это вздор! Я думал, хуже будет. Дорожник наклеветал на себя, дорожка совсем не плоха — выдержит. Машины вот у нас дрянь, это верно, вдребезги изношены…
Дождь переставал, сквозь сизые испарения пробивались лучи солнца, еще острее тянуло с болота дурманом, гнилым грибком, от бревен под ногами шел кислый и терпкий дух намокшей сосновой коры, начинало припекать спину, комариный звеньк становился назойливей, вспугнутая цапля, бесшумно и вяло взмахивая крыльями, проносилась низко над гатью, дятел начинал выколачивать свою дробь.
— Теперь бы с ружьишком по болотцу за утками… а? — спрашивал Игоря Брусилов. — Охотишься?
— Охотился, Алексей Алексеевич…
— Да, нынче у нас охота пошла другая… — и внезапно к шоферу, обеспокоясь: — Скажи-ка, братец, мы едем с полной нагрузкой? Ничего там за спиной у меня не скинули для облегчения?
— Никак нет, ваше высокопревосходительство, — как есть с полной.
— То-то. А в караване по скольку машин?
— По шесть штук. За четырнадцать рейсов моей бригады, ваше высокопревосходительство, только одна авария случилась, да и то с последней машиной — в хвосте колонны… скрепы, видать, не выдержали, — бревна и разойдись…
— А я вот не догадался на последнюю сесть, — досадливо бормотнул Брусилов и сейчас же весело Игорю: — Нет, их, чертей, видно, нам с тобой врасплох не поймать! На совесть поработали. А? Как по-твоему?
— На совесть! — горячо подхватил Игорь.
— И драться будут на совесть, — убежденно мотнул головой Алексей Алексеевич и помахал вертушкой перед лицом, отгоняя назойливых комаров. — Вот посмотрим, что у них там с позициями… тогда к Лечицкому — на последний глазок — и…
Он оборвал, затянулся «Месаксуди» и ушел в свои мысли.
Только в темень они прибыли по назначению, наскоро перекусив, пошли к первой линии и с зарею уже были на наблюдательном пункте одного из командиров артиллерийской подгруппы.
На первый взгляд, опасения Каледина и смущение Зайончковского перед задачей, поставленной правому флангу, — идти на максимальное сближение с противником, — казались основательными. А без этого сближения, хотя бы до четырехсот шагов, невозможен был эффективный бросок вперед всего правого крыла 8-й армии, на котором настаивал комфронтом.
Генералы оглядывали в цейсовские бинокли открывшуюся перед ними панораму, Зайончковский что-то вполголоса объяснял Брусилову, протянув вперед себя руку. Брусилов слушал, не отрывая глаз от стекла цейса.
Передовая линия окопов, скорее даже не окопов, а насыпных ложементов, слепленных из торфяных брикетов, перевязанных проволокой и обшитых сосновыми бревнами, шла извивами вдоль торфяного болота далеко на северо-запад и юго-восток. Оба конца этой линии скрывались в молочной завесе тумана, еще очень плотного и казавшегося бесконечной морской гладью.
Едва волнуемая гладь тумана простиралась шириною не менее двух тысяч шагов и обрывалась уходящим в гору берегом. Все это пространство, казавшееся теперь огромным лесным озером, было торфяным болотом. Торф, сплетение корней амшарника, суницы, дурмана, жиденьких карликовых сосенок образовали пушистый ядовито-зеленый, с седыми разводами ковер, казавшийся плотным, но стоило ступить на него ногою — и человека засасывало с головой. Передовая линия наша шла по самому краю этой коварной топи. Она лежала в болоте, копать окопы нельзя было — они тотчас же до краев наполнялись водою, построить торфяной бруствер оказалось возможным. Застелив досками свои фальшивые окопы, люди устроились сносно, но как двинуться дальше?
Впереди — до двух тысяч шагов гиблой топи, великолепно пристрелянной австрийцами, за топью — песчаное всхолмье, за гребнем которого, скрытый густой порослью ельника и тощей сосны, забетонировался и оплелся проволокою враг. Доползти до противоположного берега можно было только в одиночку, поддерживая себя досками, да и то умеючи и не без риска для жизни.
Смельчаки разведчики еженощно пробирались туда таким способом и даже приводили «языка». Саперам удалось в иных местах у подножия песчаного кряжа закрепить телефонные «норы» и даже установить блиндированные наблюдательные пункты. Но поднять в атаку целые части с исходных позиций в данных условиях было бы безумием…
— Мы пробовали по ночам постепенно зашивать болото дощатым настилом и на нем строить прикрытия, но дело оказалось явно безнадежным, — объяснял Брусилову Зайончковский.
— Ну, само собою, — соглашался комфронтом.
Он не отрывал глаз от бинокля.
Заря разгоралась все ярче, розовый пар клубился над опаловой гладью тумана. Какие-то звенящие, непередаваемо нежные звуки возникали, расплывались по топи, гасли, снова рождались то там, то тут, перекликаясь, скрещивались. Тогда казалось, над туманом звучит невидимая арфа, кто-то легким движением пальцев перебирает струны, от самой тонкой до самой глубокой басовой… Но ничто живое не могло издавать эти звуки, так они были чисты и невесомы…
— Что это? — спросил Брусилов.
— Газы, — за командующего группой ответил дивизионный генерал, — подпочвенные газы… мы уже к ним привыкли, но в первое время…
Алексей Алексеевич остановил его движением руки. Все притихли. Игорь слушал зачарованно. Казалось, поет зарождающееся утро. Да так оно и было — пел воздух, розовая дымка, свет зари. И тотчас же, с первым лучом, сверкнувшим на вершине самой высокой сосны, чудесная музыка эта оборвалась, и ей на смену заговорила земля. Сразу хором, деловито забурчали, забасили жабы, за ними, торопясь, захлебнулись, разлились миллионами голосов лягушки, резко протрубили журавли, взвились в воздух и застонали чибисы, утиная стая потянула с юга на север…