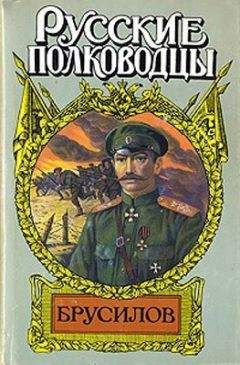— Русски, спишь? Иди нас поздравляй! Виват!
Голоса заглушались оркестром, игравшим штраусовский вальс. Уставшие музыканты играли жидко и фальшиво. Штраусовская беззаботная мелодия, звучавшая именно тут, в эту ночь, перед лицом настороженно притаившейся русской боевой линии, казалась Игорю многозначительной. Он невольно оглядывался и хотя ничего не мог увидеть, но ясно представлял себе бесконечную нить окопов, жерла пушек, направленных туда, откуда неслись пьяные крики и музыка, ощущал каждым нервом дыхание всего фронта, сторожко ждущего своего часа. Бесчисленное количество лиц и среди них лица ополченцев с учебного поля под Шепетовкой, лица ополченцев у костра, лицо Ожередова и никогда не встречавшееся, но хорошо запомнившееся, со слов Ожередова, лицо Жоры Долбы — представлялись теперь умственному взору Игоря как единая пружина, готовая вот-вот развернуться. Важно не только собрать всех этих людей воедино, поставить перед ними задачу, подготовить к выполнению этой задачи, но нужно суметь в какую-то минуту, именно в ту, а не в какую иную, — отпустить пружину. В чувстве времени — гений полководца. «Ах, какой хитрый… и от меня скрыл… — с восхищением подумал Игорь о Брусилове. — И как все рассчитал!.. Сейчас, когда австрийцы празднуют день рождения эрцгерцога Фердинанда…»
— А ч-черт! — выругался Крутовской.
— Что такое? — спросил Игорь.
— Время тянется…
— Ужасно!
На востоке небо, в эту ночь по-особенному глубокое, чистое, полное звезд, помаленьку начало редеть, и знакомый холодок побежал по лицам. В узкой яме укрытия земля дышала сыростью, болотцем, стесняла грудь, паутина усталости заволакивала глаза. Чтобы отогнать усталость, Игорь попытался разглядеть местность в бинокль. В белесом тумане первое мгновение все сливалось. Крутовской охотно, чтобы занять себя и отвлечься от нервного напряжения, стал наизусть объяснять капитану обстановку.
— Вот вам — видите? — в трех верстах от шоссе тянется на юго-восток ряд небольших болотистых окон вдоль Стыри. Справа — в версте от шоссе — тоже озерцо. Это расстояние между окопами и занято нашей бригадой. На левом фланге три батальона первого полка и вторая и третья батареи… Шоссе и пространство до озера справа заняты моей батареей и четвертым батальоном полка. Наш фланг несколько выдвинут вперед. Второй полк в резерве. Вон там — за нами в мелколесье наши орудия, их и при солнце не разглядеть. Это все наша работа… Местность, как видите, ровная и вся как на ладошке… Каждый квадрат под обстрелом. Мне не нужно сверяться по карте, на любое задание, зажмуривши глаза, могу ответить наизусть, не вычисляя команды… Если бы вы знали, как мы работали! — Крутовской передернул плечами и воскликнул. — Этих дней никогда мне не забыть!..
Утренняя звезда поблекла, заря разгоралась все ярче, но тишина рассвета казалась неправдоподобной. Приказаний с командного пункта не поступало. Русские линии безмолвствовали. Игорь и Крутовской не отрывали глаз от медленно ползущих часовых стрелок. Они показывали без шести минут четыре часа утра, когда раздался голос в телефонной трубке. Охрипшим тенором, напряженно тараща глаза на Крутовского, телефонист передал приказ.
— Угломер — сорок пять, тридцать, трубка сто пятнадцать! — так же хрипло и сорванно, как человек, внезапно пробужденный от сна, выкрикнул Крутовской.
— Выстрел идет! — повторил ответ с батареи телефонист.
И воздух дрогнул… Казалось, пошатнулась твердь. Игорь невольно вытянул руки и все же ударился грудью о бруствер.
Ураганный огонь проносился над головой… И тотчас же взрывы один за другим, как бурно бегущая гамма, подняли землю и балки вдоль всего видимого вооруженным глазом австрийского фронта. Волна детонации катилась обратно, но тотчас: же навстречу ей свистел новый огненный вихрь. Каждые две с половиной минуты — «чемодан», каждые две минуты — снаряд полевой пушки, каждый снаряд в заранее намеченную точку…
Грохот, огонь, смерть… Грохот, огонь, смерть… С остановившейся, торжествующей улыбкой Игорь то отмечал время по секундомеру, то следил за разрывами.
— Раз, два, три, — шептал он. — Раз, два, три…
И каждый раз на слове «три» вздрагивала земля, узкий блиндаж сотрясался и воздух рвало в мелкие клочья. Казалось, пущена была в ход одна-единственная гигантская машина, и безупречный ритм ее движения подчинил себе все окрест. Не было ни благостно разгорающегося утра, ни голубизны весеннего неба, ни зелени луга, по которому еще вечером Игорь шел, сбирая незабудки, не было памяти о прошлом, не было и мысли о настоящем, не было ощущения жизни и страха смерти… только одно — удары сердца, отвечающие орудийным ударам, отдача себя всего этому неумолимому ритму, в котором, казалось, заключались вся цель и смысл бытия. Самый этот ритм, эти чередующиеся удары и огненный смерч стали собственным сознанием и действием такой опьяняющей силы и всесокрушающей воли, которым нет и не может быть препятствий. Рот невольно открывался, готовый кричать «ура», все тело собрано для броска… Едва замедлится пауза, сникнет грохот, и ты сам ринешься вперед…
— Раз, два, три, — механически прошептал в который раз Игорь и сразу не понял, что произошло. Мгновенная тишина заглушила грохот.
Игорь подтянулся на руках, готовый выпрыгнуть, и с трудом опомнился, остановленный Крутовским.
— Пошли? — спросил он.
— Нет, не слышно, — ответил Крутовской.
Они ждали атаки, нарастающего «ура». Они вгляделись в австрийские окопы. Среди нагромождений балок, осколков бетона, вспаханной и вздыбленной земли враг зашевелился.
— В чем же дело? Перерыв?
— Да, конечно, перерыв.
Игорь, глубоко вздохнув, отер пот, струившийся по лбу и щекам.
Четверть часа длилось глухое молчание.
Все трое сидели, опустив головы, тяжело дыша, точно после непосильной работы.
И снова приказ по телефону, новый угломер, «выстрел идет» и снова — огненный смерч… Снова бегут в убежище австрийцы, и губы снова шепчут: «Раз, два, три…»
В десять утра с первой линией австрийцев было покончено. Огонь перенесли на вторую.
И опять перерыв, пятнадцать минут глухоты, и точно по хронометру новый вихрь огня, новый удар удесятеренной силы. Камни, бревна, деревья, тела людей взлетают в задымленную пустоту неба. Слов рядом стоящего человека не слышно, глаза засыпаны песком, открытый рот пересох. Бьют тяжелые орудия через каждые две минуты. Покрасневшие, слезящиеся глаза не видят движения секундной стрелки. Через каждую минуту грохочут легкие. В стекла цейса нельзя разглядеть ничего в рыжей клубящейся дали…
Ровно в полдень пошла наконец русская пехота. Она перекатилась через первую линию, достигла второй… Люди бежали в серой мгле, солнце затмилось…
Одну только коротенькую минуту Игорь колебался. Приказано было явиться в штаб фронта 24 мая. Сегодня 22-е. Но тут же было сказано, что к началу операции он будет нужен комфронта. Как быть? Чему верить?
К началу операции он все равно не поспел вернуться, остается поверить числу. Два дня в его распоряжении… И тут же пришла догадка: конечно, его ждут к 24-му, а надобен он Брусилову к началу операции вовсе не в штабе, а тут — на месте действия! Умейте читать между строк, если вы хотите точно и разумно выполнять директивы главнокомандующего, господин капитан!
Алексей Алексеевич не бросает слов на ветер. Зачем он послал своего адъютанта на центральный участок 8-й армии? Чтобы тот убедился в правильности суждения комфронтом о боеспособности и добросовестной подготовке к прорыву 39-го и 40-го корпусов? Чепуха! Кому лучше знать, как не Брусилову, войска своей родной 8-й армии? Он никогда в них не сомневался и крепко уверен в них сейчас. Но он не доверяет воле и духу Каледина. Вот в чем суть. Об этом сказать прямо он не хочет. Вмешиваться непосредственно в управление армией он тоже не считает целесообразным.
Но Брусилов хочет, чтобы сила удара, который будет нанесен противнику, достигла не одну только цель прорыва фронта противника. Ему нужно, чтобы бросок на Луцк на пути к Ковелю, опередив оба фланга армии (что для него несомненно), явился бы началом разгрома 2-й австрийской армии, над тылами которой эти части нависнут. Эту задачу следует подсказать Каледину вовремя. Но конечно же не раньше того, как удастся прорыв, и именно так удастся, как это предвидел Брусилов.
Чтобы проверить действие, необходимо при нем присутствовать. Вот зачем понадобились глаза и уши адъютанта Смолича. Когда глаза его убедятся в том, что все сделалось как должно, пусть уши его услышат директиву Каледина войскам центра, посланную ему главнокомандующим устами его адъютанта. Эта подсказка будет принята как совет, и приказ не смутит норовистого командарма.