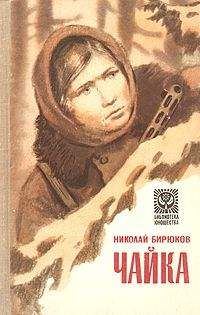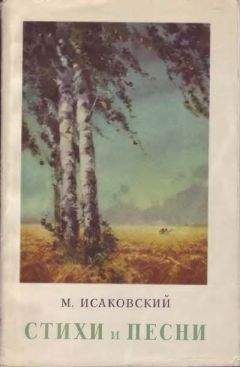Она попыталась высвободить свои руки, но он не отпустил их, а сжал сильнее.
«Больно, Федюша», — хотела вскрикнуть Катя, но голос пропал. Она почувствовала, как вспыхнуло ее лицо, я наклонила голову, но все так же продолжала ощущать на себе его взгляд, и от этого ее внезапно охватила какая-то незнакомая слабость, и сердце колотилось, колотилось…
— …наши войска оставили город… — продолжал говорить диктор. За перегородкой по-прежнему постукивала машинка.
— Катюша, я…
Катя услышала близкие голоса, топот ног.
— Девчата… ко мне идут.
Федя выпустил ее руки, и она, красная от смущения, подбежала к распахнувшейся двери. Две девушки ступила уже на порог, а остальные заполнили весь общий отдел, стояли в коридоре.
Сколько преданных глаз, сколько дорогих лиц, в которых она на память знала каждую черточку! Все они были ее подругами. Сколько вместе разных дел переделано!
В кабинет протиснулась Зоя. Пожимая плечами, она улыбалась, и все лицо ее так и говорило: «Я здесь ни при чем, Катя… Разве их задержишь?»
— Девчата, милые, я сейчас, — Катя оглянулась на Федю. Он стоял у окна и смотрел на улицу.
— Федя!
— Да? — отозвался он глухо.
— Мы, кажется, с тобой обо всем переговорили. Нет, что-то еще я хотела сказать. — Она потерла лоб. — Да! Ты ведь без всего, а нужно хотя бы смены две чистого белья взять, полотенце, еще кое-что. В Головлево к себе съездить не успеешь, так мы тебе сейчас все здесь организуем. Хорошо?
— Хорошо, — ответил он не оборачиваясь.
* * *
Митинг закончился в двенадцать, а в половине первого на дороге перед Домом Советов выстроилась колонна девушек, по четыре в ряд, с топорами и лопатами. За спинами у всех были вещевые мешки.
У калитки стояли Катя, Зимин, Зоя, Саша, тетя Нюша, Нюра Баркова, военком и два товарища из райкома партии. Тетя Нюша, вытирая слезы, что-то говорила Кате, но та не слушала. На губах и щеках своих Катя все еще чувствовала горячие поцелуи подруг и в ладонях ощущала тепло их рук.
Федя оглядел колонну и, повернувшись по-военному, быстро подошел к калитке и козырнул. На груди его, поверх военной гимнастерки, крест-накрест перехлестнулись ремни вещевого мешка, за поясом был засунут топор.
— Товарищи секретари партийного и комсомольского комитетов, трудовая рота певских комсомольцев готова к отправке для выполнения фронтового задания.
Он смотрел только на Зимина, стараясь не встречаться взглядом с Катей.
Ни до митинга, ни после ему так и не пришлось побыть с ней наедине. То, что жгло сердце и горячим волнением проходило в крови, не было сказано. И Катя бог знает что думает теперь о нем. Может быть, она решила, что он струсил и хотел отказаться от дела, связанного с громадной ответственностью и смертельным риском, — иначе почему же так вспыхнуло ее лицо, почему она наклонила голову, почему так обрадовалась приходу девчат? И в зале совещаний во время митинга, встречаясь с ним взглядом, она поспешно отводила глаза в сторону. Почему?
А Кате так непривычно было видеть его лицо хмурым, а глаза тоскующими. Сейчас она жалела, что девчата помешали им там, в кабинете, — пусть бы уже были сказаны те слова. Они поговорили бы хорошо, по-дружески. Он все понял бы… Он умный.
— Твердо уверен, что задание будет выполнено вами с честью, — сказал Зимин.
Катя, прощаясь, задержала федину руку в своей.
— Ты что-то хотел мне сказать, Федя? Напиши оттуда, — попросила она тихо.
— Хорошо, может быть напишу.
Федя увидел на ее глазах слезы и сквозь них светящуюся ласку.
— Я тебе сейчас скажу это, Катюша, — проговорил он дрогнувшим голосом. — Не надорвись в работе, хоть немножко думай о себе. Об этом я тебя очень, очень прошу. До свиданья, Катенька!
Повернувшись лицом к шумевшей колонне девушек, он четко отдал команду; — Смирно-о! Колонна замерла. Федя забежал вперед.
— Комсомольская трудовая рота, шагом — арш! — Он крикнул еще что-то, и Косовицкая Вера, большеглазая и черная, шагавшая в головной четверке, тряхнула головой и задорно, будто с вызовом кому-то, затянула:
— Ты что это, Чайка? — спросил Зимин, услышав, как тяжело вздохнула Катя.
— Сначала парни уходили, а теперь вот… Больше полутора тысяч было, а сейчас… — И она, отвернувшись, быстро пошла к крыльцу.
Зимин нагнал ее у двери.
— Ты куда?
— На поля.
— Нет, Чайка, спать.
Катя посмотрела на него удивленно.
— Сто тридцать человек сняли с полей и — спать?
— Федя тебе правильно говорил, — сказал Зимин хмурясь. — Если надорвешься, от этого никому пользы не будет: ни полям, ни тебе.
Она молчала, прислушиваясь к удаляющимся голосам подруг.
— Я сейчас еду в обком доставать людей. За взрослых не ручаюсь, а школьников мне обещали… Конечно, вряд ли они заменят твою комсомолию, но все же… И кроме того… Я не говорил — хотел тебе сюрприз устроить: в обкоме обещали горючее дать.
— Правда, отец? — оживилась Катя. — Вот если бы на все тракторы?
— Но я не уеду, пока не дашь слова, что сейчас же отправишься спать.
Поспать очень хотелось, и в глубине души Катя соглашалась с Зиминым: немножко отдохнуть было бы нелишним. К тому же еще этот озноб и жар в голове. На ведь ее сейчас ждало какое-то срочное дело; Какое же? «Да! Статья в газету не дописана», — вспомнила она.
— Ну как же, договорились? — настаивал Зимин.
— Хорошо, отец… В Ожерелках…
Она посмотрела в ту сторону, куда ушли ее подруги и Федя. Колонна уже скрылась за углом улицы, и оттуда, с пустыря, сквозь шум тополей доносились замирающие слова песни.
— В Ожерелках у мамки высплюсь, — добавила Катя и толкнула дверь.
Часа в три, сдав в редакцию статью, она уехала в Ожерелки.
Солнце еще не зашло но на горизонте уже проступал по-осеннему блеклый румянец вечерней зорьки. Тяжелые колосья пригибались под ветром, а глухого шума их не было слышно: он тонул в гуле людских голосов, в рокоте тракторов и в лязгающем грохоте комбайнов. Тракторы вели Маруся Кулагина и Танечка. Вздыбливаясь волной, падала набок золотистая пшеница. В открывающихся прогалинах мелькали фигуры женщин и детей.
— Мешки давай! Эё, мешки! — несся над полем голос Васьки Силова.
Поворачивая руль, Маруся то и дело посматривала на дорогу.
сквозь гул мотора доносилась к ней песня. Марусе и самой хотелось заплакать: столько пшеницы, что перед глазами расходились золотистые круги, а горючее на исходе. Утром обещали доставить с головлевской базы, а не доставили. Феди нет, и Катя куда-то запропала.
С лязганьем, потрескивая, поворачивалось за трактором громоздкое тело комбайна. Возле него суетились женщины и пионеры. В поставленные мешки, шурша, стекало по жолобу сухое зерно.
За дорогой жали пшеницу серпами. Вместе с ожерелковскими женщинами и девушками работали комсомолки, пришедшие на рассвете из Покатной и Залесского.
Вязальщицы едва успевали за жнеями. Снопы оттаскивали и устанавливали в крестцы пионеры, прибывшие рано утром со своими знаменами под бой барабанов и неумолчные звуки горнов. Из-за снопов мелькали их лица и голые коленки.
На опушке леса, острым углом врезавшегося в поле, белели осевшие полукругом парусиновые пионерские палатки. В центре этого полукруга, прикрепленный к вершине сосны, трепетал огненным языком флаг. Там же дымила кострами полевая колхозная кухня, а за деревьями снова желтело поле, мелькали головы, покрытые платками, и чей-то голос раздраженно кричал:
— Давай, давай! Эх, чорт, не задерживай!
Вдали пшеничное поле обрывала пересохшая канава, и по другую ее сторону шумела рожь. Там косили. Косцов было немного: старики, восемь прибывших из Залесского комсомолок и несколько ожерелковских колхозниц. Первым шел старик Семен Лобов. За ним — рослая комсомолка. Лицо ее от напряжения и солнца приняло почти малиновую окраску, и с него на шею в вырез платья ручейками стекал пот. Третьим косцом была Василиса Прокофьевна. Она ступала на влажную щетинистую землю твердо, всей подошвой, и по-мужски, широко взмахивала косой. Рожь падала плавно, точно ложилась отдохнуть.
Ни на шаг не отставала Василиса Прокофьевна от комсомолки. Но давалось это ей нелегко. Давно уже не притрагивалась она к косе, последние годы только на льне работала. А ведь это всякий знает: для льна нужна одна сноровка, для хлеба — другая.
Во рту стало сухо, горло стянуло: очень хотелось пить. Не останавливаясь, она оглянулась на мальчишек и девчонок, вязавших снопы. Среди них был и ее Шурка.
— Воды, ребятки.
Одна из пионерок подбежала к бочонку, зачерпнула кружкой. Василиса Прокофьевна набрала в рот воды и, прополоскав горло, выплюнула, набрала еще и опять выплюнула. Пить нельзя. Помнится, еще дед говорил: пить на косьбе — последнее дело; от воды кровь жижеет, усталости больше, и потливость одолевает. Дунет ветер с холодной стороны — и простыла. Лошадь и то, когда с бегу напоишь, сгинуть может.