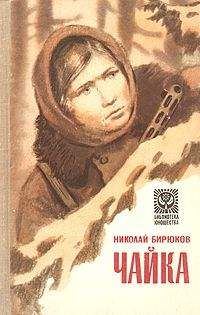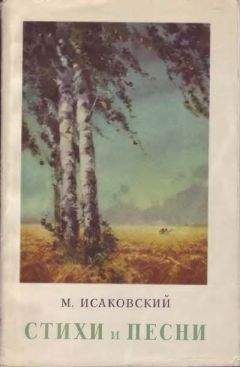— Я эт-то т-так с-сказала. Я с-смогу.
— Ох, отзовутся вам эти слезки, злыдни, — прошептала Марфа.
Одна из пионерок, вязавших снопы, тронула ее за рукав:
— Теть, а теть! Вы бы отдохнули чуть… От вас пар…
— Что ты! В уме ли, девка? Вам это нужно — вы маленькие, а нам…
Марфа приложила серп к стеблям, но не перерезала их; выпрямилась и настороженно слушала. Гул комбайнов стал жиже: казалось, грохотали не обе машины, а только одна. Оттуда, где работали комбайны, доносились взволнованные голоса, что-то кричали там, а что — никак не разберешь.
— Горючее все, — близко прозвенел детский голос, и Марфа вздрогнула.
— Бабоньки! Горючее!
— Ой! — вскрикнул один из пионеров и выронил серп: из левой руки, которую он прижал ко рту, капала кровь.
— Еще не легче! — Марфа сдернула с головы платок и подбежала к мальчику, чтобы перевязать ему руку.
Поднялся шум:
— Не надо детей допускать к серпам!
— Одни управимся!
— А не управимся, так и на их жнивье далеко не уедешь! — Покалечат только себя!
— Что случилось, товарищи? — прозвучал встревоженный голос, и шум разом оборвался; в кустах, начинавшихся у крайнего скирда, стояла Катя. Подойдя к пионеру, она осмотрела его пораненную руку и раздраженно сказала кареглазой комсомолке с добродушным усеянным веснушками лицом:
— Никонова! Я, кажется, просила, чтобы пионеров, особенно тех, которые никогда в жизни не держали в руках серпа, к жнитву не допускать!
— Катюша, да разве сдержишь их? — горячо проговорила та.
— Вот Нина — ладони в кровь истрескались, плачет, а серпа не отдает… И потом, думаешь, ничего… В свое время мы ведь тоже к серпу с этих лет привыкали…
— «В свое время», — гневно передразнила ее Катя. — Ты зачем, Коля, серп взял? — спросила она пионера.
Губы мальчика дрогнули; слезы, которые он до сих пор сдерживал, стремительно хлынули на щеки.
— Зачем? — Он кивнул на пионерку, смотревшую на него испуганно. — У Лиды взял. Посмотри, какие у нее руки, — жалко стало, мы ведь с ней дружим.
— А Лида зачем серп взяла?
Ничего не сказав, девочка наклонила голову. Катя тяжело вздохнула.
— Перевяжите ему руку быстрей.
«Воодушевлять? — усмехнулась она, вспомнив недавний разговор с Зиминым. — Война сама всех — и старых и малых — воодушевила».
К ней подошла Маня.
— Здравствуй, Катюша! Ты вчера так быстро уехала, что мы как следует и не поговорили.
— Здравствуй! — Глаза Кати, засветившиеся было ласково, вдруг подернулись синевой. — Это твой участок?
— Мой.
— Ну тогда мы с тобой после работы поговорим «как следует», — рассерженно пообещала Катя. — Ты что же это, всерьез вздумала на пионерах выехать? Тебе мало, что пионеры на вязке да на скирдовке помогают?.
Маня растерялась. Разные характерами, они с Катей любили друг друга, и никогда еще сестра не говорила с ней так, как сейчас, ни разу за всю жизнь не смотрели так на нее глаза Кати.
— Девчата-то твои… Вместо полутораста только… шестьдесят пришли, — проговорила она, путаясь в словах.
— Знаю, — отрывисто сказала Катя. На глазах Мани навернулись слезы.
— Ты вот накричала на меня, а что я… Посмотри: зерно-то осыпается…
Катя промолчала. Молчали и все остальные. Из-за скирда выбежала раскрасневшаяся Танечка.
— Катюша, у нас горючее… Мой трактор…
— Знаю. Может, будет скоро, — рассеянно отозвалась Катя.
Она смотрела вдаль, туда, где над кустами в полосе пыли вырисовывались верхушки повозок, нагруженных домашним скарбом и похожих на уродливые горбы.
По дороге шли беженцы. Бок о бок двигались коровы, повозки, люди. Колеса телег, попадая в лужу, оставшуюся после ночной грозы, обдавали людей грязными брызгами. Но люди, казалось, не замечали этого. Они шли, как в полусне, — молчаливые, злые. Многие были босы. Ноги устало шмыгали по жесткой земле. Очевидно, шли издалека. Наверху повозок дремали ребятишки. Катя остановилась у самого края дороги. Мимо, чуть не задев ее колесами, проскрипела повозка. Поверх клади, привязанный к спинке сложенной кровати, спал белокурый мальчик. Одна ручонка у него свесилась и болталась. Из-под сомкнутых ресниц выползали слезы — побегут по щекам, остановятся и опять бегут…
Рядом с повозкой шагали молодая женщина — вероятно, мать спящего мальчугана — и высокий старик с забинтованной головой и небольшими глазами, угрюмо поблескивавшими из-под отечных век, которые, словно подмаргивая, вздрагивали от мелких судорог, пробегавших по его темному, изрезанному морщинами лицу.
Вяло опустив вожжи, он говорил:
— Война, Серафима, как карты: у кого туз, тот ж верх берет. Немцу, видно, чорт танки родит — прут и прут, только лязг в ушах.
Старик говорил правду. Из писем с фронта Катя знала, что у ваших войск налитого меньше танков: и в этом; была одна из причин стремительного продвижения, немцев.
«Да, немцы прут и прут, а здесь хлеб стоит», — подумала она, окидывая взглядом дорогу. Куда хватал глаз, потоком двигались повозки, коровы, люди. Где-то, визжали поросята. Вытянув из корзинки длинную шею, надрывался в гоготе белый гусь.
Не всех детишек удалось пристроить на повозках, некоторые шагали в общем потоке, цепляясь за подолы матерей и сестер. Но Катя смотрела не на детишек, не на усталые и как бы окаменевшие лица беженцев, а на их опущенные руки. Сотни рук! Мускулистые, жилистые, привычные к труду… Руки, которые могут спасти урожай.
— Товарищи! — крикнула она взволнованно.
Сгорбленный, словно переломленный в пояснице, старик, две женщины, косоглазая девушка и несколько чумазых ребятишек, приподнявшихся с повозок, посмотрели на нее, а остальные даже глазом не повели — точно глухие, точно на самом деле шагали в глубоком сне.
— Товарищи!
На этот раз никто не оглянулся.
Катя проглотила подступивший к горлу комок. Да, она понимала их: нелегко расстаться с родными местами, с жизнью, созданной собственным трудом! Кое у кого на бинтах и тряпках проступала кровь: были и под огнем. Некоторые, может быть, вырвались из деревень, уже занятых немцами. В любом районе, мимо которых прошли, они могли бы остановиться, и повсюду бы их приняли, как родных, и повсюду вот этими своими руками сколько помощи принесли бы они фронту, родной стране! А они не останавливались — шли и шли, точно под гипнозом. Куда? Неизвестно. Лишь бы подальше от фронта, подальше от того, что опустошило их души. Бежали от самих себя…
Она понимала, что у этих внешне безразличных ко всему людей, быть может, сердца на части рвутся: мысль о самой тяжелой смерти куда легче не, покидающего ни на минуту сознания, что там, в оставленном родном доме, хозяйничает теперь немец. Все это было ей понятно; но и они должны понять: хлеб-то созрел, а убирать некому. Зерно осыпается, фронтовое зерно!
Шагах в десяти от того места, где она стояла, окруженная пионерами, от шоссе ответвлялась и пряталась в кустах полевая дорога.
Катя подвела пионеров к этой дороге.
— Перегородите шоссе. — Голос ее от волнения прозвучал хрипло. Пионеры взялись за руки и цепью ринулись в середину скрипящего повозками потока. На Колю надвигалась лошадь; он остановил ее за узду. Послышались голоса:
— Тпрр-ру-у…
Но задние повозки продолжали напирать, и перед цепью детей образовалась «пробка». У полуголой женщины с растрепанными волосами расплакался на руках ребенок.
— Молчи, идол! — прикрикнула она. Схватившись рукой за веревку, туго стягивавшую узлы, Катя поставила ногу на ступицу колеса, выпрямилась.
— Товарищи, куда вы идете? — спросила она, задерживая взгляд на тоскливом лице женщины в зеленой кофте. Та недоуменно осмотрелась, очевидно желая, чтобы кто-нибудь ответил за нее на вопрос, над которым сама она никогда и не задумывалась. Но все молчали.
— Туда, — сказала она, ткнув пальцем вдоль дороги, и отвернулась. — Шагаем, пока ноги шагают, а откажутся…
— Зачем же вам куда-то «туда» итти? Оставайтесь у нас, товарищи. Район наш просторный, богатый, а людей мало. Будете жить и работать, как у себя дома. И вам станет лучше, и нам легче. Выгонят из ваших сел немцев, тогда, кто захочет, сможет вернуться. А кому у нас понравится — оставайтесь, пожалуйста. И дома поможем поставить, и хозяйством обзавестись.
Беженцы молчали. Было слышно, как шелестел кустами ветер.
Катя вытянула руку в сторону желтевшей за ними пшеницы.
— Хлеб стоит, товарищи…
Несколько человек медленно повернули головы по направлению ее руки.
— А про свой хлеб мы не знаем, красавица, — угрюмо проговорил один из беженцев — старик с рыжеватой бородой. Он закашлялся и стал поправлять дугу. — Может, стоит, а может, повалился. У немцев наш хлеб!