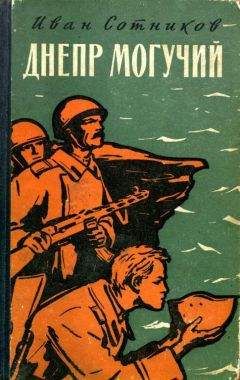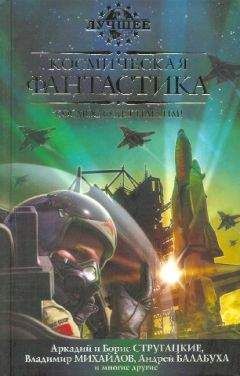Парк напоминал о молодости. Еще в пору своей краскомовской юности Ватутин часто бывал в этом старом парке. Над книгой, бывало, засиживался. Любил вечерней порой побродить по аллеям с женой Таней. Подумать только — совсем почти безграмотной девушкой была, и он учил ее грамоте!
У крутого спуска Ватутин загляделся вдаль. Там, на отлогом берегу, он когда-то водил в наступление взвод, потом роту. Обучая солдат, он наступал на фронте самое большее в шестьсот метров. Его армии теперь наступают на шестисоткилометровом фронте. Еще тогда он тренировал бойцов в форсировании Днепра, и разве это не пригодилось теперь, когда его войска с блеском преодолели и эту водную преграду.
Привольная украинская земля! Она для Ватутина была родной и близкой. Здесь прошла его юность, здесь он учился, здесь формировался его командирский характер.
В Полтаве Ватутин кончал курс военной школы. Как все памятно и дорого! На знаменитом Полтавском поле Фрунзе зачитал им приказ о производстве курсантов в командиры. Фрунзе! Вот кому всегда он старался подражать, вот у кого всегда учился. Какой талант полководца, какая глубина идейной убежденности, какая красота души!
После окончания военной академии и Высшей академии Генерального штаба военная судьба снова привела Ватутина на Украину, но уже крупным военачальником. И вот теперь, в грозную годину войны, он во главе армий фронта наступает по украинской земле. Для него, Ватутина, Украина стала воистину второй родиной.
Командующий стоял на крутом берегу и, подставив лицо свежему ветру, любовался рекой. Могучий красавец неудержимо гнал свои воды к морю. Река отражала чудесные краски утреннего неба, блещущие чистотой тонов, отчего и на душе становилось тоже просторнее и светлее. Первые утренние заморозки напаяли тонкие кромки льда. Пусть на время зима и скует эти могучие силы — весна не за горами. Все идет своим чередом. Будет еще и теплый ветер с солнцем, и эти воды, сломав лед, снова ринутся вниз к морю, круша и уничтожая все преграды, и ничто не остановит могучую стихию.
4
Весь остаток дня Хрущев провел в полку Щербинина. Старый сибиряк сопровождал его от позиции к позиции, стараясь ввести генерала в обстановку, сложившуюся на переднем крае. Член Военного совета беседовал с солдатами и офицерами, расспрашивал о письмах из дому, о потерях, о душевном настроении. Его радовали задор молодых, трезвая неторопливость старших. Тысячу раз обстрелянные, они обо всем говорили буднично, просто и обычно, не бравируя ни своей стойкостью в обороне, ни смелостью в наступлении.
Еще до приезда Хрущева в полку появился командир корпуса. Сухой и высокий, с резко очерченным лицом, он обрушивался на каждого встречного и ничего не спускал ни солдату, ни офицеру. У одного снял звездочку, другого понизил в должности, третьему пригрозил штрафным батальоном.
Березин, сопровождавший генерала, невольно поеживался. Громы и молнии казались неоправданными.
Наскочил комкор и на Капустина. Не сдобровать бы комбату, не подоспей вовремя Хрущев. Комкор сразу стих, как-то потерялся. Куда только девался его грозный пыл! Член Военного совета, будучи наслышан про генерала, сразу понял, в чем дело. Очередной наскок. Ему только вчера докладывали про комкора, как тот непростительно грубо обращается с подчиненными, попирает их человеческое достоинство, и многих безосновательно отстранил от должности.
Нетерпимый к произволу, Хрущев решил разобраться в сути дела и заставить генерала серьезно подумать о своем обращении с подчиненными.
Разговор с командиром корпуса, состоявшийся в штабе полка, был неприятен, и Хрущев, беспрестанно морщился. Член Военного совета даже не предложил генералу сесть — настолько был раздосадован.
Глядя на сухое, бесстрастное лицо комкора, Хрущев все старался понять, как можно без конца запугивать всех угрозой расправы. И откуда в нем эта пагубная страсть? Ведь посмотришь, командир как командир, и воюет вроде геройски, и дело знает. В самом деле, откуда? К сожалению, есть еще командиры, что по делу и без дела запугивают подчиненных, нервируя их всяческими угрозами. Так и этот. Почему?
Хрущев без обиняков высказал генералу свою точку зрения, и тому стало не по себе. А член Военного совета все перечислял и перечислял его слова, поступки, действия.
— Вы всем грозите, — говорил он комкору, — и вас боятся. А промахнулся офицер, ошибся — вы, вовсе беспощадны. Нет, слишком круто, слишком.
— Ведь требовательность… — заикнулся было генерал.
— Требовательность, требовательность!.. — отмахнулся Хрущев. — Требовательность — хорошо. Но ради чего? Чтоб себя показать? Вот, мол, каков. Или ради перестраховки, чтоб за все отвечал подчиненный? А может, как способ управления, чтобы все выжать из людей, угрожая расправой? Если так, значит, воспитывать трусов, людей слабых душой, энергичных поневоле, но слабых. Это неверно. Требовательность нужно проявлять лишь ради дисциплины и порядка, ради дела. Я сам не спущу разгильдяю, бездельнику. Скажете, нужна профилактика? Согласен, порой и предупредить надо. Даже лучше вовремя потянуть виновника за ухо, чем позже подвести его к пропасти и столкнуть туда. Но все, все — умно, ради дела. Вот главное! Почему другие умеют, а вы нет?
— Учту, товарищ генерал.
«Раз кричишь, значит, слаб ты душой, — собираясь с мыслями, рассуждал про себя Хрущев, — ни ума в тебе, ни воли, ни такта. Лишь бы настращать! Как мало этого, чтобы командовать и приказывать».
Хрущев еще и еще оглядел генерала. В руках у того огромная власть. Лишь командуй да приказывай. А командовать — не значит грубить, запугивать и гнуть человека, а будить в нем честь, достоинство — все высокое.
Усадив, наконец, генерала за стол, Хрущев заговорил уже мягче, душевнее. Конечно, никто не ратует за благодушие, за попустительство и всепрощение. Нужны и строгость, и взыскательность. И среди военных есть люди, порой забывающие про честь и долг и несущие службу спустя рукава. Но любая строгость не подразумевает грубости, самодурства. Высокое положение отнюдь ведает права распоясываться, поносить и третировать своих подчиненных. Не убивать их воли, энергии, а будить в них дарования, таланты — вот дело начальника. Помните, Ленин считал гнусным, недостойным коммуниста быть грубым с человеком, который стоит ниже по положению и потому не смеет ответить. В своей требовательности Ленин был железным, но никогда в его отношениях к людям не было ничего раздражительного и оскорбительного. Он умел разбудить в человеке новые силы.
Разговор был долгим и нелегким…
Возвратившись в Киев, Хрущев направился к командующему и застал его за горой писем.
— Смотрите, что делается, Никита Сергеевич, — развел руками Ватутин. — Всем на фронт хочется. А кому же готовить резервы, нести службу здесь, кому? И разве им не известно, что война не только на переднем крае?
— Патриотизм, Николай Федорович, — весело усмехнулся Хрущев, — так сказать, высокие чувства.
— Да, чувства! Только хочешь не хочешь, а придется остужать. Впрочем, вот говорю, а сам, право, был такой же. Не верите?
— Нет, почему же.
— Как сейчас, помню, — разоткровенничался командующий, — зачислили в запасной полк. Спим на голых нарах. Если занятия — ботинки с обмотками, а на хозработы лапти обуваем. Потом бои с бандами под Луганском. А вспыхнула война с панской Польшей — нам и удержу нет: рапорт за рапортом. Я тоже написал. Отказали. Еще прошусь. Опять отказ. Прошусь третий раз. А комиссар вызвал и говорит, куда тебе, еще не обучен как надо. И на курсы меня. Впереди, говорит, еще много боев и походов. В общем, образумил.
Хрущев добродушно рассмеялся.
— Я ведь к чему, Никита Сергеевич, не нужно ли и нам послать на курсы такого «комиссара»?
— Можно, конечно, и пошлем обязательно. Только знаете, Николай Федорович, лучше, когда каждый сам себе комиссар! Вот к чему нужно приучать людей. Ведь нам с вами не нужен же комиссар.
Запнувшись на мгновение, Ватутин невольно уставился на Хрущева. «Тебе, может, и нет, а мне нужен, и оба мы знаем, какой ты замечательный «комиссар». Никакого другого я не хочу». Вслух же сказал:
— А чтобы приучить, к сожалению, нужно еще обращаться и к «комиссару».
— Вполне согласен, Николай Федорович…
Весь вечер члена Военного совета одолевали мысли о виденном и пережитом. Бабий яр, стотысячная могила! Там тоже командовал страх, чтобы убить волю к сопротивлению, волю к борьбе. Чтобы расчистить место «расе господ». Но там враг, жестокий и непримиримый. Нет, сам он не против страха. Врага нужно устрашить. Но врага! Зачем же запугивать тех, кто с тобой в одном строю? И откуда такое? От кого? Не от того ли, кто породил тридцать седьмой год? Не от того ли, кто насаждал недоверие, подозрительность, страх? Не тут ли и корни многих бед, которых могло бы не быть? И все же время принадлежит здравому смыслу, и он восторжествует. Иначе не может и быть!