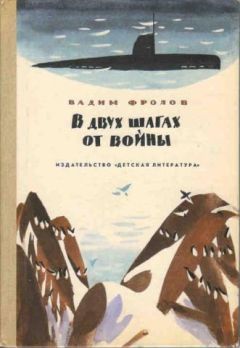Мысли были невеселыми, и вспоминался Ленинград. Мне теперь трудно было вспоминать его: и прекрасным — мирным, и страшным — блокадным. А вот сейчас он так и стоял у меня перед глазами весь, и мирные картины мешались с военными. То я на крыше нашего дома, лучи прожектора резали темное небо, глухо хлопали разрывы зениток, и визжали, покрывая кожу пупырышками, бомбы, а я обожженными руками сбрасывал вниз «зажигалки» — ведь это было! То я прозрачным, ясным днем гулял с сестренкой по набережной, а на Неве стояли разукрашенные флагами расцвечивания корабли, а вечером нарядная и веселая толпа шумела на площадях и улицах, и фейерверк отражался в воде. А потом опять Катюшка — такая маленькая — лежит на обледенелом тротуаре, а на виске у нее черная запекшаяся дырочка — след осколка…
И еще я думал о матери и об отце. И мне было стыдно перед ними. Я вспомнил, какой была мать там, на причале, когда «Зубатка» уходила в свой рейс, и каким гордым был я, стоя на берегу и снисходительно помахивая ей рукой. А отец… отец так и не пришел проводить меня. Почему?..
— Не задохнулся еще? — услышал я голос Громова.
Я молчал.
— А ну, встать! — вдруг скомандовал старый капитан. — На вахту пора.
— Какую еще вахту? — недоверчиво спросил я.
— Впередсмотрящим. Морошкина сменишь. Закоченел он совсем, а ты уже десять часов отлеживаешься. Марш! — И он ушел.
Я не знал, радоваться мне или плакать. Скорее все-таки радоваться. Я попытался вскочить, но тут же сел снова — ноги дрожали, все ныло и болело. «Ладно, слабак чертов, — сказал я себе, — встанешь и пойдешь! И если кто над тобой смеяться будет, молча проглотишь и не вякнешь! И будешь стоять на вахте, что бы ни случилось: шторм, ураган, тайфун, айсберги и рифы…»
Я выскочил на палубу и побежал на нос. Морошка отбивал чечетку и громко стучал зубами. Я засмеялся.
— Еще см-меется! — возмутился Витька. — Сам целый день п-под од-деялом просидел, а я т-тут м-мерзни, д-да?! — И он, припрыгивая, помчался в кубрик.
— Ну и сачок твой кореш, — сказал, посмеиваясь, вахтенный, — всего-то полчасика постоял и ныть начал. А ты теперь гляди в оба. Видишь темные полосы на облаках? Это водяной отблеск. Значит, рядом — море без льдов.
И верно, матрос в «вороньем гнезде» крикнул: «Чистая вода!» Я заметил, что разводья стали шире, да и лед другой: на нем уже не торчали причудливые ропаки, не громоздились торосы, и весь он был совсем подтаявший и изъеденный. А через некоторое время мы увидели ярко сверкающую на солнце свободную ото льда воду, а далеко-далеко на горизонте показалась темно-серая полоса. Из «гнезда» опять раздался крик наблюдателя: «Прямо по носу земля!»
И я почувствовал себя настоящим мореплавателем, долгие месяцы проведшим в бурном океане, и «волнующий возглас: «Земля!» — радостным ударом отозвалось в сердце».
Звякнула ручка машинного телеграфа. «Зубатка» вздрогнула и резко прибавила ход. Полный вперед! Море лениво катило широкую привольную зыбь, и на этих пологих волнах плавно покачивались белоснежные и серебристо-серые чайки.
— Это хорошо, — удовлетворенно сказал вахтенный, — чайка села в воду — жди, моряк, хорошую погоду.
Он обернулся в сторону ходового мостика и громко крикнул:
— Товарищ капитан, Пал Петрович! Куда ж это нас вынесло? Случаем, не Гусиная то Земля?
— Она, — ответил Замятин, — только не «вынесло», а вышли.
— Есть вышли! — откликнулся матрос, и хлопнул меня по плечу. — А ты говорил, салага? Знатный у нас капитан! Ишь как он: не вынесло, дескать, а вышли. Тут, понимаешь, большая разница есть. Уловил?
— Уловил, — сказал я.
Оранжевый солнечный шар едва заметно клонился к горизонту, но о вечере ничего не напоминало. Все так же зеленью с блестками переливалась вода, и стало даже теплее. Наверное, оттого, что мы уже далеко отошли ото льдов. На палубе было много ребят — все смотрели вперед, на берег, негромко разговаривали, с кормы доносилась песня.
— Ну, считай, что теперь уже быстренько дотопаем, — сказал вахтенный, — до Кармакул миль шестьдесят — семьдесят осталось. А там и дома. — Он снова легонько дотронулся до моего плеча. — Сам-то откуда будешь? Говор у тебя не наш, не поморский.
— Из Ленинграда, — сказал я.
— Ишь ты… — Он покачал головой.
Мне нравилось, что этот пожилой, с морщинистым, обветренным лицом и добрыми глазами, с тяжелыми, узловатыми руками матрос говорил со мной на равных, как моряк с моряком.
Земля приближалась, и четче стала неровная полоса пологих холмов, из темно-серой она становилась черноватой, появилось больше чаек и других птиц, которых я еще не знал.
— Наверно, гусей тут много? — спросил я матроса.
— Угадал, — добродушно ответил он, — много, а ране — была их тьма-тьмущая. И гуменники, и казарки. Они сюда летели гусенят выводить. На полуострове этом речонок да озерков — уйма. Били тут раньше гусей тысячами, не жалели. Особо осенью, когда гусь линяет. Линный гусь не летун, крыло у него слабое…
— Так промысел же… — вставил я.
— Дак и промысел надо с умом вести, — ответил он. — Волк и тот лишнего зверя не убьет. — Он помолчал, глядя на море. — Вот ты хорошо меня слушаешь — значит, понимаешь, а другому хоть кол на голове теши: мол, что гусей или там рыбку жалеть, на наш век хватит. На наш-то, может, и хватит… Вы на промысел идете, значит, тож с умом надо. Тут, понятное дело, война, люди так голодают, что помыслить страшно…
Гусиная Земля приближалась. В чистом прозрачном воздухе уже хорошо были видны невысокие утесистые берега, полого поднимающиеся вглубь.
— Мыс Южный Гусиный Нос обходим, — сказал матрос.
— А вы хорошо знаете эти места, — сказал я.
— Э-э, браток, новоземельское знание у нас из рода в род переходит. И сам я хаживал тут не раз и не два…
Я хотел спросить его еще об экспедициях, но вдруг матрос замолчал, и я увидел плывущий нам навстречу серый продолговатый предмет.
— Мина… — тихо сказал я.
— Какая мина? Гляди лучше, — строго сказал вахтенный.
Мы смотрели вовсю и вскоре заметили еще несколько других предметов, которые медленно покачивались на спокойных волнах: мешки, доски, еще что-то…
— Тьфу, рачьи мои глаза! — крикнул матрос. — Смотри: спасательный круг… Ну-ка, быстро на мостик, доложи капитану.
Когда я прибежал на мостик, капитан Замятин уже рассматривал в бинокль плывущие навстречу предметы.
— Такие дела-а, — произнес он медленно и скомандовал в переговорную трубку: — В машине! Самый малый вперед. А ты молодец, что заметил, сказал он мне.
«Зубатка» шла совсем медленно, и матросы баграми вытаскивали на палубу темные промокшие мешки. Боцман, накрутив на руку длинный трос линь — с грузом на конце, раскрутил его в воздухе и, как лассо, бросил в воду. Попав в самую середину спасательного круга, он подтянул его к борту и осторожно вытащил на палубу. И вот он лежит около главного трюма — белый пополам с красным, а на блестящей глянцевитой его поверхности написано черными латинскими буквами: «ЭЛЬ КАПИТАНО». ПАНАМА. Рядом лежат четыре серых, плотно набитых мешка, а вокруг молча стоят моряки и ребята. И круг этот, и мешки, и полуобгорелая доска, тоже вытащенная из воды, — как свидетели чего-то такого страшного, о чем трудно даже думать. «Эль капитано». Панама…
— Далеко же ты заплыл, капитано, от своих родных мест, — задумчиво сказал Громов. — И гибель принял далеко.
И он снял фуражку. Мы тоже стащили с голов свои шапчонки и кепки. Было тихо. Казалось, даже чайки и те притихли…
— А что в мешках, Павел Петрович? — спросил комиссар.
— Мука, думаю, — медленно ответил Замятин, — она когда в воду попадет, намокнет только сверху и плавает.
Боцман достал из-за голенища большой нож и взрезал один из мешков. Под сероватой липкой коркой там действительно была совсем сухая мука. Замятин велел пересыпать ее в чистые бочки и отнести на камбуз и, резко повернувшись, ушел.
…Шел по морю корабль из солнечной страны, где растут бананы, проплыл тысячи миль и в бурю и в штиль, плыли на нем смуглые веселые люди, а где они сейчас? Вынырнула из-под воды черная металлическая акула, выплюнула из своей пасти сигару-торпеду… и только спасательный круг лежит на нашей палубе…
— А зачем он из Панамы из этой к нам сюда? — негромко спросил Саня Пустошный.
— Полагаю, из конвоя это. К нам шли, — сказал Громов. — Кажись, Панама тоже Гитлеру войну объявила, верно, комиссар?
— Да, — ответила Людмила Сергеевна. — А этот не дошел.
Рано утром 13 июля «Зубатка» уже обходила длинный, низкий, обрывистый и темный выступ мыса Северный Гусиный Нос. Шла она в шести — семи милях от мыса — ближе подходить было опасно: у берегов на приглубых[26] банках[27] пенились белые буруны.
После завтрака почти все мальчишки высыпали на палубу, толпились на полубаке, на корме, стояли около бортовых лееров. Вот она, Новая Земля! Кто знает, как она встретит их?