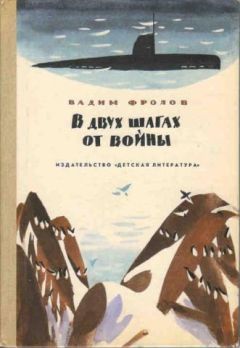Поджилки у меня тряслись самым настоящим образом. Помню, что вперед вырвался здоровенный черный пес, и глаза у него горели зеленым огнем. Я зажмурился и втянул голову в плечи… Что же они там, не видят: человек погибает…
Я слышал шумное дыхание собак и вдруг почувствовал, что кто-то ласково трется о мои ноги. Я осторожно открыл глаза. Собаки стояли вокруг и весело крутили хвостами, а черный сидел, наклонив голову набок, и внимательно меня разглядывал. Я только это и успел заметить, потому что он вдруг прыгнул. Я снова невольно зажмурился — и тут же почувствовал легкий толчок в грудь, и что-то влажное и мягкое снизу вверх смазало меня по губам. На землю я сел скорее от изумления. Я сидел на каменистой земле, а кругом скакали добродушные псы, и каждый старался лизнуть в лицо, и рядом стояла смуглая женщина и смеялась.
— Испугалась маленько? — спросила женщина, почему-то обращаясь ко мне в женском роде. — Наса собака селовека увазает, селовека не обидит. Сармика[30] не увазает, ошкуя[31] не увазает, чузую собаку не увазает, селовека — любит. Ставай, однако. Дора[32] уходит узе.
Я встал. К радости избавления от страха примешивалось чувство обиды. Откуда же я знал, что эти псы, видишь ли, человека уважают? Впрочем, обижался я не долго. Солнце по-прежнему светило. Собаки, из которых каждая запросто перегрызет горло любому зверю, почетной охраной сопровождали меня, веселая женщина шла рядом, на рейде четкими силуэтами рисовались суда нашей промыслово-полярной, и сам я ступал не где-нибудь, а по Новой Земле, на которой живут смелые и дружные люди, и на которой, ну, пусть не долго, но буду жить и работать я… Если из-за Борьки нас с Арсей не отправят обратно.
— А ну, марш в дору, — строго приказал мне боцман, и я, попрощавшись с женщиной и погладив по шелковистой шерсти черного зверя, влез в лодку.
— Где прохлаждалси? — ворчливо спросил Колька.
— Знакомился с Новой Землей, — нахально сказал я.
— Он у нас знаменитый исследователь, — захохотал Морошкин, Пахтусов, Русанов и даже Седов!
— Ага, — сказал я, — Пахтусов, Русанов, Седов и Соколов.
— Ну ты, — сказал Витька, — не больно-то задавайся! Знаем, какой ты… землепроходец.
— Заткнись, Морошка! — зло сказал Антон.
— Ладно, — сказал Морошкин, — еще маленько поглядим. Так, Шкерт?
Шкерт ничего не ответил, только усмехнулся противно.
…Спали мы в эту ночь по разным местам: на «Зубатке» команда уже разбирала нары в нашем трюме — судно должно было принять груз из Кармакул и поутру уйти обратно в Архангельск. Часть ребят разместили у жителей становища, две бригады поместились на «Авангарде», а нашей группе пришлось ночевать на палубе «Азимута» — на нем было всего две маленькие каютки для шести человек команды.
Дора пришвартовалась к борту «Азимута», и мы кое-как со своими вещичками и матрасами перебрались на суденышко. Разложили матрасы на спардеке и, кряхтя, охая, постанывая, улеглись. Семеныч с матросами принесли два брезентовых полотнища и укрыли нас сверху. И это оказалось очень кстати — к ночи небо затянулось плотной низкой серой пеленой, подул холодный ветер, а вскоре забарабанил нудный дождь, и пришлось натянуть брезент на головы.
— Ложись тесней, — сказал кто-то, — все теплее будет.
Все задвигались и поприжались друг к другу.
— Вот еще дождь, будь он неладен, — ворчливо сказал Саня.
— Тут еще не так бывает, — глухо откликнулся откуда-то Карбас. — Мне батя сказывал, что тут погода может чуть не каждый час меняться. Глядишь, солнце, а через час, глядишь, дождь, а ишшо через час и всток падет.
— Какой еще всток? — недовольно спросил Толик.
— Ветрище такой. Восточный, значит, — ответил Колька, — страшенный ветер. А за ним снег…
— Утешил! Ну, прямо обрадовал, — засмеялся Славка, потом вздохнул и сказал мечтательно: — А у нас в Одессе…
— Чего ты нам своей Одессой в глаза тычешь? — Я узнал шепелявый голос Баланды. — Какого… рожна ты к нам со своей Одессы пожаловал?!
— Ну ты! — закричал Арся. — Говори, да не заговаривайся!
— Да хватит вам соб-бачиться, — жалобно сказал Боря-маленький, уст-тали в-ведь в-все, сил н-нет…
— А ты, заяц морской, помалкивай, — сказал Васька.
— Да заткнитесь вы! — послышался раздраженный голос.
— Хватит! Всем спать! — откликнулся с левого борта Антон.
— Раскомандовался… — проворчал Васька, но замолчал.
Замолчали и остальные. А по брезенту, то чуть затихая, то набирая новые силы, все стучал и стучал надоедливый дождь, да тоскливо выл в вантах ветер…
Только к утру распогодилось. Сквозь рваные края облаков проглядывало стоявшее уже довольно высоко солнце, стих ветер, и прекратился дождь. Из-под потемневшего брезента нехотя стали выползать ребята — помятые, недовольные. Я только сейчас по-настоящему почувствовал вчерашнюю усталость — ныли все косточки, а поясницу было не согнуть, не разогнуть.
— Ну чо, салаги, носы повешали? — спросил боцман. — Ежели теперь заскучали, как дале-то робить станете?
— Ничего, боцман, — лениво ответил Саня, — поработаем.
— Где наша не пропадала! Эх! — лихо крикнул Арся и попытался отбить чечетку, но ноги не слушались, и он, смущенно махнув рукой, сказал: — Не расходились еще ходули мои. Ничо, расходятся. Они у меня такие.
— Вот это разговор, — одобрительно сказал Семеныч и пыхнул своей трубкой. — Собирайте вещички, и пойдем завтракать на «Зубатку». Обедать уж на месте будем. Собирайся побыстрей — вон дора уже ждет.
И верно, в правый борт «Азимута» толкался здоровенный моторный карбас.
— А где же «Авангард»? — удивленно спросил Славка.
— Он свою работу делает, — ответил боцман. — Четвертую бригаду на место отвез. Потом первую и вторую отправит, а потом уж и ваш черед.
— Быстро больно, — недовольно сказал я, — осмотреться не дали.
— Зато тебя на берегу хорошо собаки осмотрели, — усмехнулся Шкерт.
Вокруг засмеялись. «Всё видят, черти», — с досадой подумал я, но тоже засмеялся. А что было делать?
— Вот ладно, — сказал боцман, — с весельем лучше.
Покачивало. Садиться в лодку было трудновато — она то отходила от борта «Азимута», то со стуком и скрежетом снова прижималась к нему. Вначале в дору спрыгнули Антон, Арся, Саня, и они вместе с мотористом стали принимать вещи и укладывать их по всей лодке. Когда все было погружено, начали прыгать и остальные. Лодка оседала все глубже и глубже, и я с опаской посматривал на Семеныча — чего же он смотрит: потонет лодка! Но боцман невозмутимо дымил трубкой и только изредка покрикивал на нас. А широкая дора принимала все новых и новых и даже раскачиваться стала меньше. И я успокоился, а чтобы показать всем, что тоже не лыком шит, прыгнул в дору небрежно и, как мне казалось, красиво. Это пижонство вышло мне боком. Прыгая, я за что-то зацепился ногой, меня развернуло, и летел я вниз чуть не кубарем. Дора в этот момент отошла от «Азимута» чуть дальше, и моя левая нога осталась за бортом. И тут же волна снова притиснула лодку к судну, и нога оказалась зажатой между бортами. Ребята подхватили и сильно дернули меня, нога выскочила из сапога, и он плюхнулся в воду, и я упал на мешки. Кто-то ахнул, кто-то выругался, кто-то вскрикнул, но сейчас все молчали, а я не смотрел на ребят. Распижонился…
— С ногой что? — крикнул с «Азимута» Семеныч.
Я ощупал ногу. Вроде ничего не болит, так, саднит одну косточку.
— Снимай носок, — сказал Антон.
Я отрицательно повертел головой.
Тогда он сам сдернул носок и твердо, но осторожно стал ощупывать мою ногу, поворачивая ее туда и сюда.
— Чего молчишь? — буркнул он. — Ты ори. Болит?
— Не-а, — промямлил я. Нога действительно почти не болела, а если бы и здорово болела, я бы все равно не сказал.
— Ну как? — спросил Семеныч. Он уже тоже был в лодке.
— В порядке, кажись, — сказал Антон. — Надевай носок, замерзнешь.
— Спасибо, — тихо выдавил я.
— Вот наш… форсила недоделанный и получил, как это говорится, боевое крещение, — сказал Витька Морошкин. — И храбрость проявил, и сапог утопил.
— Ты, Морошка, помолчал бы! — взорвался Арся. — Поглядим, как ты по скалам ползать будешь… сопля голландская.
Морошкин скривил губы и сказал медленно:
— Ладно, Гиков, это я тебе тоже припомню.
— Припоминай валяй, — сказал Арся, — что-то много вас, припоминальщиков, нашлось.
— Что это вы как петухи какие? — сердито сказал Семеныч. — Кончай гомонить… Отдай концы! — крикнул он матросу на «Азимуте», потом сказал мотористу: — Сперва их завезешь, потом меня на берег забросишь, там у начальства совещание собирается.
Я рассеянно смотрел, как серебрится вода, стекая с поднимающихся весел. Настроение было, прямо скажем, неважное: я вспомнил, как опозорился тогда, когда чинил во льдах «Азимут», как перетрусил с собаками, и думал, что вот уже в третий раз «сел в лужу», а еще если меня отправят в Архангельск… Пожалуй, прав был отец: жидковат ты, парень…