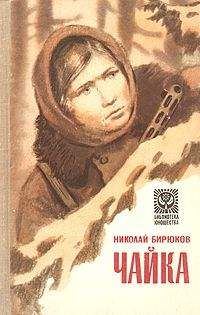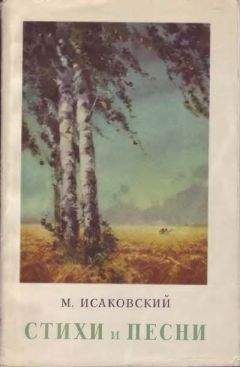— Может, нынче-то все-таки больше не пойдешь, а? — спросила Василиса Прокофьевна не сдержавшись.
Катя с полным ртом решительно замотала головой.
— Ну что ж… Я ничего. Девок-то своих и механика надолго отослала?
— Не знаю, мамка. Ведь там… там не только трудности… Там — смерть.
«Сунуло с языком старую, — выругала себя Василиса Прокофьевна, заметив, как сразу потемнело лицо дочери. — Полночи просидела на поле, о беженцах душой мучилась, теперь чуть забылась, а я, дура, ей другую боль травлю…»
— Такая уж жизнь, Катюша. Бог весть, где кого смерть настичь может. Все теперь под ней ходим.
Катя смахнула в ладонь хлебные крошки. Сминая их в пальцах, искоса взглянула на мать.
— Скажи, мамка, детей рожать… трудно?
— Чего-о? — В голосе Василисы Прокофьевны прозвучало радостное удивление.
— Я про детей, — вспыхнув, сказала Катя.
Мать торопливо вытерла о фартук руки, а сердце счастливо задрожало. «Слава тебе, господи! Видать, природа в крови сказалась». Пряча улыбку, она залюбовалась покрасневшим лицом дочери, и вдруг голову обожгла новая мысль, повергшая всю ее в смятение. «А может, она… и все это время скрытничала от матери?» Сердце кольнула обида, но радость все же была сильнее.
— Да ведь это, Катенька, не у всех одинаково, — сказала она садясь с дочерью рядом и прощупывая глазами ее талию. — И у одной может по-разному быть раз на раз не приходится. Вот Маню я чуть не в поле родила, доплелась до порога — и схватки. Дня три, ежели не запамятовала, отлежалась и опять — в поле… А тебя когда рожала, так едва отходили. Трудно было! — В голосе ее зазвучала ласка. — И голосистая же ты была… прямо с первой минуты как воздух глотнула. Я от твоего крика и в себя пришла. Повитуха Вавиловна — покойница теперь, царство ей небесное! — говорила: «Ну, Василиса, не знаю, чего сказать тебе-примета на такой голосок двойственная: или счастья приворот — богатства полные амбары — принесет тебе дочь, или горюшка хлебнешь через нее — до самого горла, станет» А я ее не слушаю руки, значит, тяну, чтобы тебя взять, и к груди скорей. Слово-то сказать нет сил, только губами шевелю.
Василиса Прокофьевна вытерла навернувшиеся слезы. Глаза Кати светились задумчиво, тепло.
— Раньше я как-то… — проговорила Каля тихо, рассеянно кроша в тарелку хлеб. — А это, наверное, очень хорошо… Родится, скажем, сын… сначала сморщенный, глупенький… Пищит, как котенок… Потом понимать начинает… Посмотрит на тебя, протянет ручонки — кругленькие, на локтях, ямочки… и протяжно так скажет: «Ма-ма…»
Она засмеялась. Рассмеялась и мать.
— Неужто плохо? Я давно тебе говорю — хорошо! А ты затвердила: «У меня весь район семья».
— …И вот с каждым днем растет, растет, — продолжала Катя. — Понимаешь, мамка, приглядываешься к нему и замечаешь, что он на тебя похож — лицом или еще чем-нибудь. Спит в колыбельке, наклонишься над ним… Реснички его трепыхнутся, поднимутся, и глянут на тебя такие карие глазенки.
Мать повернулась к ней всем корпусом.
— Почему же карие?
Катя смутилась.
— Да это я так… к примеру. — Помолчав немного, она пытливо посмотрела на мать. — А тебе… Федя нравится?
— Механик-то?
— Механик.
— Веселый… И, видать, работящий, — осторожно ответила Василиса Прокофьевна. — А что?
— Так просто… — сказала Катя и покраснела еще гуще. — Любит он меня, мамка.
— Ну?! — радостно вырвалось у Василисы Прокофьевны. — А ты?
— Я? Я не знаю… Еще не думала об этом…
— Не думала? — разочарованно переспросила мать. — Что ж он, механик-то, изъяснился?
— Н-нет… Я так догадалась…
— И разговору промеж вас такого не было?
— Нет.
— А я уж подумала… — огорчилась Василиса Прокофьевна. — Парень-то, прямо скажу, по душе мне. Трактористки твои, подметила я, поглядывают на него. Оно и понятно: простой, сильный, ласковый, да и на личность, прямо скажу, очень приятный… И с образованием. Механик!
Она поднялась.
— Заболталась, а ведь я хотела в погреб за молочком.
— Да я уж вроде не хочу… Пойду сейчас.
— Выдумает тоже — «не хочу». Я быстренько. — И Василиса Прокофьевна метнулась к двери.
Вернувшись из погреба, она крикнула с порога:
— Холодненькое. Стаканом будешь пить или чашкой?
Дочь не ответила.
Войдя в горницу, Василиса Прокофьевна увидела: Катя спала за столом, держа в руке ложку и чему-то улыбаясь.
Весь этот день моросил дождь, и лишь поздним вечером облачность стала редеть. Кое-где бледно засветились звезды. На станции Большие Дрогали под навесом сгружали с подвод мешки с зерном: бои шли в соседнем районе, и хлеб отправляли в глубокий тыл.
Рядом с трактористкой Клавдией, принимавшей хлеб на весы, в забрызганных грязью сапогах стояла Катя. Лицо ее за последние дни так резко осунулось, что под скулами, когда она поворачивалась к свету фонаря, ложились тени — очень темные, точно въевшаяся в кожу угольная пыль. Нос заострился, а глаза на все и всех смотрели без улыбки — синие, как сгустившаяся лазурь. Она только что пришла с гумен великолужского колхоза и, хмурясь, слушала пожилую колхозницу, рассказывавшую о слухах, будто немцев удержать не хватит сил и пропустят их за Волгу, к Москве.
— Я-то вроде и не верю всему этому, — смущенная ее молчанием, сказала колхозница. — Чуть разговор такой, говорю бабам: «Да разве не сказали бы нам, разве скрыли бы от народа, ежели бы так плохо было?» Зазря ведь болтают, дочка, а?
Люди, стоявшие у подвод и весов, подошли ближе.
С тех пор как немцы ворвались в соседний район, всюду — и на станциях и в колхозах — устремлялись на Катю вот такие ожидающие глаза. Они были понятны без слов: когда наступит конец отступлению? Пропустили немцев через Днепр и через глухие леса Смоленщины, а через Волгу — это никак невозможно: пропустить через Волгу — пропустить к Москве.
— Я могу об этом сказать только то, что на душе есть. — Катя приложила руку к груди. — Вот чувствуется здесь, — не пропустим… Не можем пропустить!
Может быть, в голосе ее прозвучала большая уверенность, чем та, которая теплилась в душе у каждой из этих женщин, — глаза колхозниц посветлели. Возбужденно зашумели все разом:
— Не должны!
— Не хватит бойцов — пусть нас позовут, все пойдем!
— Пойдем! Кто с чем встанем и с места не сдвинемся!
Из дверей, станции выбежала дежурившая комсомолка Верунька Никонова.
— Катюша, к телефону тебя… скорее.
Вызывал Зимин. Он сказал всего пять слов, но они, как гвозди, вонзились в сердце.
Катя, пошатываясь, вышла на улицу.
— Товарищи, лошадь мне…
Ее обступили. Она обвела взглядом встревоженные лица колхозников. Среди них были и беженцы, которых она уговорила закрепиться за колхозами Певского района. Глазам стало горячо, и она с трудом произнесла:
— Эвакуация…
Весть об этом мгновенно облетела весь район. Срок на эвакуацию был предельно жесткий; и всюду поднялась суматоха.
Приехав в Певск, Катя долго не могла пробраться к Дому Советов — на улицах негде было свободно шагу ступить. Возницы остервенело нахлестывали лошадей, плакали дети, в потоке повозок, людей и скота мелькали красноармейские шинели. В нескольких шагах от Кати, когда она протиснулась, наконец, к калитке Дома Советов, вынырнуло из темноты жерло орудия, а прямо перед глазами выросла разгоряченная морда лошади.
— Гражданка! Эй, гражданка! Не путайся под ногами, чорт тебя подери! — закричал ездовой.
Катя отшатнулась и побежала к крыльцу. В общем отделе райкома партии было шумно, в камине жарко потрескивал огонь — жгли бумаги. Ни на кого не глядя, Катя быстро подошла к кабинету Зимина. Технический секретарь преградил ей дорогу.
— Извини, Катерина Ивановна, но товарищ Зимин… Она молча отстранила его и толкнула дверь. Впустив ее, Зимин снова закрыл дверь на ключ.
В кабинете на полу валялись клочья бумаги, ящики стола были выдвинуты, папки грудами лежали на столе, на стульях, на диване.
Катя подошла к столу. Постояв, тяжело опустилась на стул, прямо на какие-то бумаги, и заплакала; лицо руками закрыла.
Зимин стоял и, покусывая губы, смотрел, как судорожно вздрагивали ее плечи.
«Неужели надломилась, поддалась страху?»
— Катя! — окликнул он тихо, но властно.
Чувство, заставлявшее его называть эту голубоглазую девушку дочкой, сейчас молчало. Перед ним был коммунист, за которого он нес ответственность перед партией и перед своей совестью. Только что, разбираясь в бумагах, он мысленно проверял каждого партийца из тех, которые должны этой ночью вместе с ним уйти в лес, и решил, что его заместителем в отряде будет Катя; лучшего помощника, думалось, не найти, — и вот, пожалуйста, она перед ним в истерике, вся дрожит. Это было неожиданно, досадно и больно.