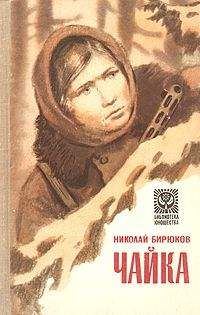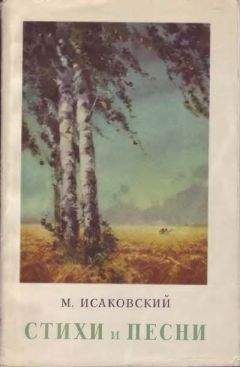— От кого еще, а от тебя не ожидал. Стыдно! — сказал он резко. — Ты на глазах у всех. Пойми и помни: ни я, ни ты не имеем права на слабость.
Катя медленно подняла заплаканное лицо. Долго и удивленно смотрела на Зимина.
— Не понял ты меня… Не слабая я, сам знаешь… — Она подошла к окну, стояла безмолвная и, не замечая, комкала штору.
— Боль все время была, — глухо вырвалось у нее в глубоком вздохе. — Помню, когда сдали Одессу, так прямо дыхание сдавила эта боль. Чувствовалось: нельзя больше ей расти, некуда! А вот сегодня… сейчас… Ведь здесь каждое дерево будто сама вырастила… каждая травинка… родная.
Овладев собой, она прошлась по кабинету, встала спиной к двери.
— Ты знаешь, Зимин, я не жалела сил. Только и жила этим, чтобы жизнь скорей… Понимаешь? А теперь… будто по мне все те повозки и люди бежали…
Зимин не сводил с нее мягко светящихся глаз. Да, он понял ее состояние, и все теплее и теплее становилось у него на душе.
«Пусть выскажется — это облегчит. Пусть поплачет. Ничего», — думал он.
Катя устало закрыла глаза. И виделись ей могучие, мохнатые сосны, слышался шум их. Они расступались, и в просветах широким морем голубел лен. Катя с трудом подняла отяжелевшие веки.
— И впустить сюда банды Гитлера, чтобы они жгли, Уродовали, пакостили… Смрадом заполнят они весь воз-; Дух, и везде будет кровь… Кровь!
Она выпрямилась, приблизилась к Зимину. Губы ее задрожали, а в потемневших глазах вспыхнули гневные огоньки.
— Ты сказал — «слабость»? Да? — На ее скулах кругло задвигались желваки. — Если бы… Ты понимаешь?.. Если бы я могла ценой своей жизни остановить их, разве задумалась бы?
Зимин растроганно обнял ее.
— Верю. Ты прости, если мои слова обидели тебя. Тоже, наверное, нервы…
Он коротко рассказал о сложившейся обстановке. Завтра они должны покинуть город. Надо вывезти все наиболее ценное и сжечь архивы — это все, что они успеют сделать. Ей, Кате, нужно сжечь свой архив и провести собрание комсомольского актива.
— Дома у тебя есть что-нибудь: списки, отчетные материалы?
— Кое-что есть.
— Тоже сожги.
— Хорошо, но только после. Сейчас у меня бюро, почти все уже в сборе, а я к тебе прибежала выплакаться. Могла бы там у себя разреветься, а это нехорошо… — Губы ее чуть тронула улыбка. — Мы не имеем права… на слабость.
Зимин привлек ее к себе.
— Ничего, дочурка. Как твоя мать говорит: «все выдюжим»… Вспомнился мне сегодня Перекоп… Какое воронье не слетелось тогда к барону Врангелю — и английские дипломаты и американские, а через плечо этих главных грабителей выглядывали турецкие беи и бояре румынские, тоже принюхивались к русской нефти, к пшенице украинской. Иосиф Виссарионович сказал нам: «Пора!» Ударили, Катя, и что осталось от этой международной банды? Может, побережье расскажет, и то вряд ли: давно с него морская волна всю грязь смыла. Ну и этим не пухом обернется земля русская, когда раздастся сталинское: «Пора!» Костей не соберут! Так ведь?
— Та-ак. Но Смоленск горит. Одесса, говорят, в развалинах… А Днепрогэс? Что с Беломор-каналом? Многое придется заново строить.
— Построим… А что у тебя на бюро?
— На бюро-то? Нужно отобрать комсомольцев для работы в подполье.
— Добре. Из партийцев мы уже подобрали подходящих людей. Ты знаешь, что Федя вернулся?
— В дверях повстречались. Не окликни — не узнала бы, наверное: худой, голова забинтована, одна рука на перевязи.
Глаза ее, как бы прощаясь, обежали кабинет и задержались на куске хлеба, лежавшем на краю стола. Она взяла хлеб, помяла пальцами. Кусок был черствый.
— Ты когда в последний раз ел?
— Это неважно, — рассеянно сказал Зимин, прислушиваясь к глухим звукам артиллерийской пальбы.
— «Неважно», — передразнила Катя. — Очень важно, Зимин! Сам твердишь все время — бороться, жить. Без еды не живут. — Она достала из портфеля булку и сверток.
— Здесь телятина.
Он улыбнулся, хотел что-то сказать, но в это время близко забили зенитки. Где-то совсем рядом ухнуло так, что зазвенели стекла. С улицы донеслись крики, слившиеся в один сплошной вопль. Катя, побледнев, взглянула на Зимина. Лицо его было сурово.
— Иди, — сказал он.
— Есть, товарищ Зимин. А слез… больше не будет. — Она накрепко сжала кулаки. — Иду.
В коридоре ее ожидала Маруся Кулагина.
Под окном тоскливо покачивались голые сучья жасмина. Сырой дымный воздух гудел от близкой артиллерийской канонады.
Позвонил телефон. Маруся вздрогнула и сняла трубку.
— Откуда? Ничего не могу разобрать. Что?
Она обернулась к Кате, торопливо кидавшей в печь бумаги.
— Из Ожерелок звонят.
— Из Ожерелок? — Катя выхватила из ее рук трубку. — Я, Катя!..
Говорил Филипп Силов, но что — разобрать было невозможно. Что-то о немцах. Один раз голос ясно выговорил имя матери.
— Филипп! Скажи мамке, пусть не волнуется. Сегодня к ночи буду в Ожерелках. Слышишь, Филипп? Се-го-дня к но-чи!
В трубке что-то зашуршало, хрустнуло и смолкло.
— Филипп!
Катя раздраженно надавила рычажок.
— Станция! Почему прервали?
— Не мы прервали, — нервно отозвалась телефонистка и, помолчав, добавила: — Связь с Ожерелками оборвалась.
— Оборвалась связь… — упавшим голосом повторила Катя. — Может быть они уже в Ожерелках?
Она провела по лицу рукой, опустилась опять перед голландкой и с ожесточением принялась кидать в огонь оставшиеся бумаги.
Маруся глазами, полными слез, смотрела на огонь.
Дышать было тяжело.
Ах ты, сад, ты, мой сад… —
влетела в комнату пьяная песня. На фоне орудийного грохота она прозвучала дико и как-то страшно.
— Аришка Булкина, — брезгливо сказала Катя. Маруся распахнула окно. На нижней ступеньке крыльца сидел лысый старик, держа во рту незакуренную цыгарку; он протягивал кисет второму старику, пристроившемуся возле крыльца на камне. По мостовой дребезжали повозки беженцев.
Из-за угла соседнего дома, пошатываясь, вышла молодая растрепанная баба.
— И-их! — взвизгнула она.
Что ты рано так цветешь. Осыпаешься?
Старик, сидевший на ступеньке, сплюнул, а другой, задрожав от гнева, крикнул:
— Аришка! Ты бы, сука, хоть в такие-то дни посовестилась.
Баба остановилась, нахально выпятив живот.
— А чем день плохой? — спросила она хрипло. — Всю ночь дождь лил, а сейчас, гляди-кось, солнышко проглянуло, небушко голубеньким становится… Ишь, благодать какая! О чем тужить мне, милый? О большевиках? В восемнадцатом-то году они нас, как липку, ободрали — гладенько… Да я не злопамятная: удирают — и пусть. Мое дело — сторона.
— Вот всыплют тебе немцы — по-другому запоешь. Сад-то не зеленым, а черным покажется.
— Мне всыпят? — Аришка засмеялась. — Да за что же, милый? Что я сделала плохого немцу? Простой народ они не трогают.
Она подошла к крыльцу и, обтерев рукой губы, присела на корточки.
— Угостите, кавалеры, закурить.
Старик, сидевший на ступеньке, яростно замахнулся.
— А ну, прочь! Для такой стервы не то что табаку — навозу жалко.
Аришка обиделась и, ругнувшись матерно, поднялась с земли, качнулась.
«Правда, какая стерва!» — чувствуя в себе огромное желание ударить эту бабу, подумала Маруся.
— Все, — сказала Катя.
В голландке чернели, рассыпаясь пеплом, листки.
Поднявшись с пола, Катя в последний раз окинула взглядом комнату. Кровать поблескивала никелированными шариками. Сквозь кружева, спускавшиеся до пола, виднелось голубое, с белесыми цветами, покрывало. Подушки — белые, пухлые, по бокам ажурная вышивка, и сквозь нее проглядывали нижние светло-голубые наволочки. Стены были гладко оклеены обоями любимого ею розового цвета.
Все вещи, к которым она так привыкла, что даже не замечала их: и этот черный диван, стоявший рядом с книжным шкафом, и письменный стол, придвинутый вплотную к окну, чернильный прибор из пластмассы и все остальное — каждая мелочь, — показались настолько дорогими, близкими сердцу, что трудно было оторвать глаза.
Взяв «Краткий курс истории ВКП(б)» со множеством бумажных закладок, Катя, не зная зачем, выдернула закладки и опять положила книгу на стол. Подошла к шкафу. На застекленных полках теснились книги — Ленин, Сталин, Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Некрасов, Горький, Бальзак. Это были не просто книги, а ее друзья, учители. Они помогали ей глубже понять жизнь и полюбить в ней все, что достойно любви. Смотрела на них Катя, и представлялось ей, как немцы ворвутся в комнату, разобьют стекла шкафа и будут рвать в клочья, топтать ногами эти книги. И было у нее такое ощущение, будто книги, как живые, укоряют ее за то, что она оставляет их врагу. Она потянула кольцо, и дверца шкафа раскрылась.