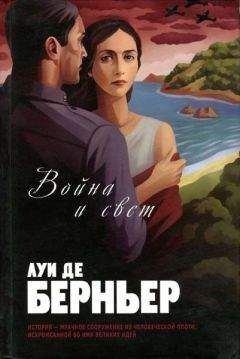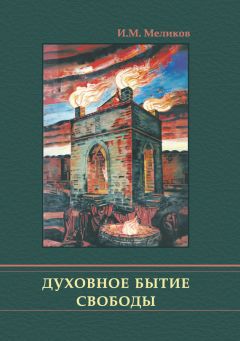Я заметил одну странность: маки, росшие среди камней, были розовые, а не красные, и мне вспомнилось присловье дядюшки — мол, женщины подобны макам и вянут, едва их сорвешь, или что-то вроде этого. Стелющиеся каперсы с причудливо изящными завитками сиреневых тычинок в чашечках из четырех белых лепестков обволакивали изгороди и обочины, где их теснили темно-синие колокольчики вьюнка. Стайка чумазых ребятишек дула в сорванные цветки, и те лопались с громким хлопком. Позже, когда никто не видел, я сам так попробовал — редкое удовольствие.
Справа от дороги в большом пруду виднелись древние развалины с этакой женственной аурой; наверное, это была церковь. Пруд, как водится, украшали малиновые стрекозы, ласточки, устроившиеся в камышах, и маленькие флотилии уток. Лягушки плюхались и пищали, будто резиновые игрушки, под водой от камня к камню скользили черепахи. В центре пруда неподвижно стоял безмолвный человек в закатанных выше колен шальварах — явно сборщик пиявок, весьма похожий на цаплю.
Сам город располагался по левую руку, на вогнутом склоне холма, похожем на громадный амфитеатр. Здесь наши предки, приди им такая идея, могли бы построить самый большой театр на свете, где городская площадь служила бы естественной сценой. На площади (клянусь, это не шальная выдумка путешественника) в дупле огромного дерева жила целая семья с астматической ослицей. Вот вам лучшее свидетельство тому, что цивилизация исчезает тем быстрее, чем больше удаляешься от Смирны. Ульи здесь держали прямо в домах, а в кухнях готовили скотине корм из листьев абрикоса и грецкого ореха. Кое-кто из местных, наевшись строгостей Великого Поста, сделался турком, а сами турки не считали зазорным сходить в церковь и поставить свечку. Иногда они даже посещали службы и стояли в дверях, сложив на груди руки с гримасой заинтересованного скептицизма. Особенно им нравилась пасхальная служба.
Однажды я оказался в городе в засуху, и местные женщины вызывали дождь. Поразительное было зрелище.
Одна женщина прицепила ко лбу коровьи рога, украшенные лентами и четками, а ее подруги вырядились в живописные лохмотья, убранные полевыми цветами и травами. С песнями и танцами они шествовали от дома к дому, и жители давали им орехи, нут и изюм. Вот что пели женщины:
Лей, лей, Константин!
Дай нам дождь, сделай слякоть
На лугах!
Наливай нам кувшины
Семь раз,
Семь раз!
И вот здесь, и вон там,
И Харону во двор!
Я все так хорошо запомнил, потому что в этой процессии увидел поразительно некрасивую девочку, а с ней изумительную красавицу и просто не мог не отметить такую странность.
Город — непостижимо запутанный лабиринт, но в то же время он был, на мой взгляд, очень хорошо продуман. Узкие улочки, где едва разминутся два верблюда, лучами разбегались вверх по склону и, повторяя его контуры, изгибались почти горизонтально, отчего дома и дворы соседствовали самым удивительным образом, но в итоге все проулки сходились у церкви Николая Угодника с ее знаменитыми девятью канделябрами, с искусно отделанными под камень внутренними стенами, чудотворной иконой Панагии Сладколобзающей, двориком с замечательной мозаикой — уголки, круги и квадраты из черно-белых кусочков мрамора и каменноугольной смолы и цифры «1910» в память о недавнем восстановлении храма. Даже странно говорить, но, к моему большому изумлению, некоторые христиане, запалив, как обычно, свечки и поставив их в песочные поддоны, опускались на колени и молились, падая ниц, как мусульмане. За церковью располагался склеп метра два глубиной, и сия промозглая пещера источала скорбный аромат гниющего тряпья и неспешно разлагающихся костей. Поскольку церковь носила имя Николая Угодника, оливу перед входом украшали лоскутки, привязанные бесплодными женщинами. Одна женщина, судя по всему, попадья, повязала много лоскутков. Иногда ее звали к детям, которые долго не начинали говорить, и она лечила малышей тем, что прикладывала к их губам бородку церковного ключа. Не знаю, помогало ли.
Конструкция домов показалась мне замечательно разумной, ибо они возводились из камня и имели систему терракотовых стоков, наполнявших водой большие чаны, что неизменно пристраивались сбоку всякого жилища. Летом это значительно облегчало трудности с водой и избавляло женщин от частых и тяжких хождений к колодцам, в каменной кладке которых за столетия подъема и опускания ведер протерлись глубокие канавки. С другого боку каждого дома имелся небольшой, но пристойный земляной клозет с закругленной крышей, надлежащей дверью и удобным сиденьем, а также оконцем вверху для выхода неприятных миазмов.
Во многих домах были деревянные настилы — их врезали в стены, чтобы места получилось больше, и увенчивали веселенькой расцветки пологами, спасавшими от изнуряющего солнца. Дымовым трубам придавали весьма целесообразный вид домиков с покатыми крышами и окошками для дыма, прорезанными сбоку. Очаги же всегда размещали в верхнем этаже, поскольку зимой внизу обычно держали скотину, которая своим теплом помогала обогревать дом. Что касается интерьеров, то про них особо нечего сказать, кроме того, что все деревянные части красились в самые веселые оттенки василькового. А вот наружные стены облекали в нежно-розовые, голубые и желтые тона, и в каждом доме у окна или двери висела клетка с певчей птичкой, отчего город, сумбурно карабкавшийся по склону, не только представлял весьма милую картину домашнего уюта, но всегда полнился состязательным птичьим пением.
У нижней окраины города стояла скромная, но симпатичная церковь святого Мины, которого весьма почитали в здешних краях. На задах тоже имелся склеп, обнесенный кованой решеткой, а пол в храме оформили дешево и сердито, аккуратно выложив черно-белой галькой подобие большой звезды в завитках виноградной лозы. Что меня особенно поразило — в церкви преспокойно жил филин, который целыми днями сидел на стропилах и лишь иногда открывал глаза, чтобы презрительно взглянуть на того, кто дерзнул потревожить его в отдохновении. По понятным причинам, на полу под насестом расстилали тряпку.
Поскольку город располагался на склоне холма, что с другой стороны обрывался утесом над морем, там вечно дул ветер и, отражаясь от скалы, грохотал, словно гром. Это нескончаемое громыханье было так размеренно, что вскоре его уже не замечаешь. Каменистыми, крутыми и уступчатыми тропинками я взобрался на вершину холма, где обнаружил разрушенную византийскую сторожевую башню и белую часовенку. Здесь была расщелина, сквозь которую восхитительно прохладный ветер обдувал город, предохраняя его от хворей дурного воздуха в летний зной, когда Господь в своем безграничном своенравии предписал заниматься тяжелейшим трудом. В глубоком известковом карьере, продырявленном укромными норками, вечерами играли дети.
Пройдя по гребню холма, я увидел множество древних гробниц. В них жил бессловесный человек, этакий отшельник неизвестного происхождения, хотя некоторые считали его дервишем. Никто не мог вынести его чудовищной улыбки. Увидев ее, я испытал такое потрясение, что в ужасе отпрыгнул и упал, шмякнувшись головой о камень и ободрав руку. Рассказывали, что некогда ему растянули рот и заставили прикусить докрасна раскаленный прут, что нанесло несказанный урон его зубам, деснам и языку. Эта безвредная заблудшая душа, которую все называли Псом, часто являлась объектом благодеяний и своим присутствием подпитывало в городе дух милосердия.
Увидел я и «обитель святого», как ее здесь называли, — гробницу с дырочкой в крышке и еще одной в днище. Согласно обычаю, человек любой веры наливал через верхнюю дырочку оливковое масло, которое, омыв кости, вытекало в нижнее отверстие и затем использовалось как панацея от всех болезней. Никто ничего не знал об этом святом, кроме того, что он — святой, хотя мне показалось, что гробница появилась значительно раньше рождения Христа. Определенно, то был самый промасленный святой в мире, и я собрал скляночку этого масла — вдруг пригодится. Потом смазал себе пятнышко сухой кожи, и, знаете, помогло.
Каменистая пустошь изобиловала перечной мятой, чабрецом, чахлой мелиссой, гаультерией, фигами, ярко расцвеченными жуками и замечательными угольно-черными сверчками, раскрывавшими в прыжке красные крылышки. Как чудесно сидеть там в сумерки, когда за спиной опускается солнце, и смотреть на дымки от жаровен, на золотой листок минарета, рубиново сверкающий в закатных лучах.
Так о чем это я? Забыл, что собирался рассказать. Кажется, я несколько отвлекся. Ах да, про Леонида! Покорнейше прошу извинить. Поймите, я восторгался городом и его прелестями уже потому, что это одно из весьма немногих виденных мною мест, которое утешительно расслабляет, как общественный писсуар. Горько видеть ныне этот покинутый, разрушенный и ограбленный рай, который населяют лишь призраки, ящерицы и отпечатки древней памяти.