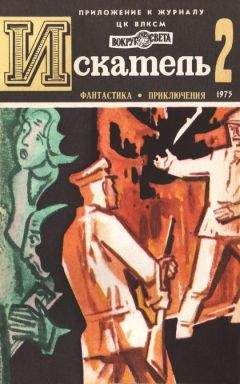— Витамин только недавно начали давать, — сказал Уманский, любивший справедливость. — Так что механик не виноват. Авитаминоз накапливался за зиму, и теперь, когда весна…
— Механик виноват. Шляется по городу, нарывается на помощника коменданта, да еще, как видно, цинга ему в голову ударила, в пререкания вступил. Что мне с вами прикажете делать? Бумага пришла из комендатуры. Требуют вас наказать.
— Что ж… — Иноземцев отвернулся к иллюминатору, залитому голубым весенним светом. — Преступление — оно наказания требует…
— Не надувайтесь, Юрий Михайлыч, как мышь на крупу. Когда вы усвоите наконец? С начальством нельзя вступать в споры. Это все равно что… против ветра. Начальству надо говорить: «Есть, слушаюсь». Промолчали бы, и помкоменданта отпустил бы вас с миром.
— Он хотел забрать меня в комендатуру.
— Ну и прогулялись бы, ничего страшного. Я бы вас оттуда живо вытащил. Нет моряка, который хоть разок не побывал в комендатуре.
— Мне там неинтересно. И некогда. А насчет моей вины… Одно могу сказать: наверное, комендантское мышление не допускает мысли, чтобы кто-нибудь был ни в чем не виноват.
— Хватит философствовать, — сказал Козырев. — Виноват или не виноват, а выполнять приказы надо. Вот что, командир бэ-че-пять. Дам-ка вам трое суток при каюте. Все равно вам отлеживаться надо с вашей цингой.
— Я лежать не могу. Сегодня приемка топлива.
— Можете не лежать. Важно, чтоб приказ был выполнен. Трое суток при каюте. И запишем: за пререкания с помощником коменданта гарнизона. А вы, Михал Давыдыч, удвойте ему, что ли, витамин цэ. Скоро начнем плавать, нам болеть никак нельзя.
Перед обедом, закончив приемку соляра, Иноземцев вернулся к себе в каюту и увидел на столе два письма. Одно было от Людмилы из Саратова, а второе — без фамилии отправителя, только номер полевой почты, но Иноземцев сразу узнал острый почерк отца.
В каюту заглянул Слюсарь:
— Ну, как устроился, механикус? Смотри, пожалеешь, что сбежал от меня.
— Не пожалею.
— Как же это ты на Рашпиля напоролся? Раз в жизни сошел на берег и сразу на Рашпиля. Эх ты, горемычный!
— Эх я, — кивнул Иноземцев и развернул письмо отца.
— Пошли обедать, механикус.
— Письма почитаю и приду.
«Дорогой Юрочка, только что дошло до меня твое письмо. Оно побывало на Н. Земле. Но у меня давно другой адрес. Хорошо хоть не затерялось. Я очень обрадовался твоему новогоднему поздравлению. По правде, я опасался, что ты осуждаешь меня и потому не пишешь…»
Скотина я (подумал Иноземцев), какое у меня право осуждать отца? А ведь осудил сгоряча… Разве он перестал мне быть отцом?..
«…Во всем, что произошло между матерью и мной, виноват я один. Живу со страшным камнем на душе: все кажется, если бы мы были вместе, Танюша была бы жива… Только военная необходимость заставляет жить и работать. С начала войны работаю в метеорологии на Северном флоте. Но все это не имеет никакого значения. Танюша не должна была умереть. Вот что не дает покоя…»
Неужели (подумал Иноземцев) он считает, что Таня… наказание ему? Но ведь это неверно, нет тут никакой причинной связи… Это мама с ее обидой и несдержанностью могла бы крикнуть такое — но никак не отец…
«О тебе я знаю лишь то, что сообщила мать в единственном своем письме. Очень волновался. У вас ведь было жарко. Да и сейчас как будто. Смешно давать такие советы, но хочется сказать: береги себя, Юрочка. Очень прошу. Напиши подробней о себе. Твой отец».
Ударили склянки, четыре двойных. Иноземцев сидел, опустив голову над письмом отца. Ломило ноги. Болели зубы, десны были рыхлые, опухшие, говорить трудно. Крепко взялась за Иноземцева цинга.
Если б можно было вернуть прежние годы (подумал он с горечью). Увидеть отца, с рыжей бородой, отпущенной на зимовке… Услышать его добродушный смех… Отец хорошо смеялся, от души, как ребенок…
Развернул второе письмо.
«Здравствуй, Юра!
Получила твое письмо. Спасибо. Я прочла его с удовольствием. Какой-то новый тон у тебя, мне это приятно. Ты не представляешь, как мы жили последнее время в Ленинграде. Когда-нибудь тебе расскажу. Сейчас я не в силах. Сейчас только поражаюсь задним числом, как мы смогли все это вынести. Я думала, что не доживу до эвакуации университета. А когда нас вывезли по Ладоге, меня вдруг охватило чувство, что я предала друга, что нельзя бросать Ленинград в беде. Ну, это трудно объяснить, тут так перемешано все, и боль, и последнее напряжение сил. В Кирове наш эшелон долго стоял, мы вышли в город, увидели похороны — несли гроб на руках, большое шествие, — так мы, представь себе, хохотали. Так дико было видеть это после блокадной зимы, когда люди просто умирали, упав в сугроб, и в лучшем случае их отвозили на санках в ближайший морг. Наверное, это была истерика. В Саратове нас приняли очень хорошо, разместили в общежитии, выдали продуктовые карточки и хорошо кормят — ленинградцев, как видно, приказано кормить повышенными пайками. Еле-еле хватает стипендии на паек, а в Ленинграде она почти вся оставалась. Нам полагается по 800 граммов хлеба! Ты представляешь? Это после 125! Первые дни я, конечно, все съедала, а теперь, кажется, хлеб у меня будет оставаться. Просто невозможно поверить, что не сможешь съесть дневной паек хлеба! Занятия идут в Саратовском университете, во вторую смену. Я думала, что из Саратова сразу пущусь домой, в Баку. И сейчас мама очень зовет отогреться. Но теперь мне не хочется уезжать. Как это я брошу своих девчонок, свой курс? Не знаю, что делать. Как ты посоветуешь, Юра? Неожиданная радость: сюда, в Саратов, эвакуирован МХАТ. Представляешь? Это просто счастье! Уже смотрела „Анну Каренину“ и „Мертвые души“. Послезавтра побежим на „Вишневый сад“. Юра, я твое письмо читаю и перечитываю. Эти строчки, где ты пишешь, что любишь… Ты правда меня любишь? Юрочка, милый, так хочется, чтобы это была правда! Целую тебя. И жду новых писем.
Люда».
Я тоже — читаю и перечитываю. Удивительно: всего несколько ласковых слов — а заполняют всю душу. Теперь снова вижу тебя — оживленное лицо с карими глазами и яркими, не нуждающимися в помаде губами, стройную фигурку, всегда как бы готовую рваться с места и куда-то бежать…
Вот только не могу себе представить, как ты хохочешь на похоронах. Эти твои слова — как ожог. Ты ведь не знаешь, что произошло в Кирове двумя месяцами раньше, — я не писал тебе о Таниной смерти. Если б знала, то, конечно, не написала бы эту страшную фразу.
Хорошо, что вас, ленинградцев, подкармливают там. Бедная моя, измучившаяся. Ты написала: «Когда-нибудь тебе расскажу». Вот прекрасные слова, в них и доверие, и обещание… Когда-нибудь ты мне все расскажешь. И я обо всем расскажу. Как гибли корабли у проклятой Юминды. Об осенних походах на Ханко, о штормах, минах и спасении людей. О том, как мучительно принимать на морозе загустевшее топливо. О скверном характере шестого цилиндра на левом дизеле. О том, как бывает трудно, если люди плохо понимают друг друга и относятся с недоверием. Вот сейчас сяду и напишу большое письмо. Напишу, что люблю тебя. Это — правда.
Нарядный и красивый, в превосходно выутюженных брюках и бушлате с надраенными до сияния пуговицами, идет старший краснофлотец Клинышкин в увольнение. Идет по улице Карла Маркса, вдоль канала с темно-зеленой стоячей водой, направляясь к Дому флота.
В это самое время в квартире Чернышевых Оля Земляницына, взглянув на часы-ходики, вскочила, заторопилась:
— Ой, Наденька, я на свидание опаздываю!
Оля в краснофлотской форме, в ботинках. Спешно надевает бушлат, натягивает на коротко стриженную белокурую голову берет со звездочкой, хватает противогаз.
— Проводи меня немного.
Она заглядывает на кухню, там Александра Ивановна занята стиркой.
— Ухожу, тетя Саша, — говорит она. — До свиданьица!
— Счастливо, — отвечает та, вытирая передником руки. — Могла бы и посидеть еще. С самых похорон Василия Ермолаича не видать тебя.
— Так служба же, теть Саша! Хоть и эрзац-краснофлотец, это нас, женский пол, так называют, а все-таки краснофлотец!
— Слыхала я это слово — «эрзац». Не настоящий, значит. Заменитель. Вроде как это, — указывает Александра Ивановна на черный омылок, лежащий рядом с дымящимся тазом.
— А мне все равно, теть Саша, — частит Оля. — Я как была телефонисткой, так и теперь на коммутаторе в СНиСе сижу, какая разница, где штекеры втыкать, зато военный паек у меня. А вы как поживаете?
— Что я? — Александра Ивановна ставит таз с бельем на горящую плиту. — Моя жизнь кончена. Ну, иди, Оля, раз торопишься.
Оля и Надя выходят на улицу. Угасает погожий весенний день, но еще светло. И тихо.