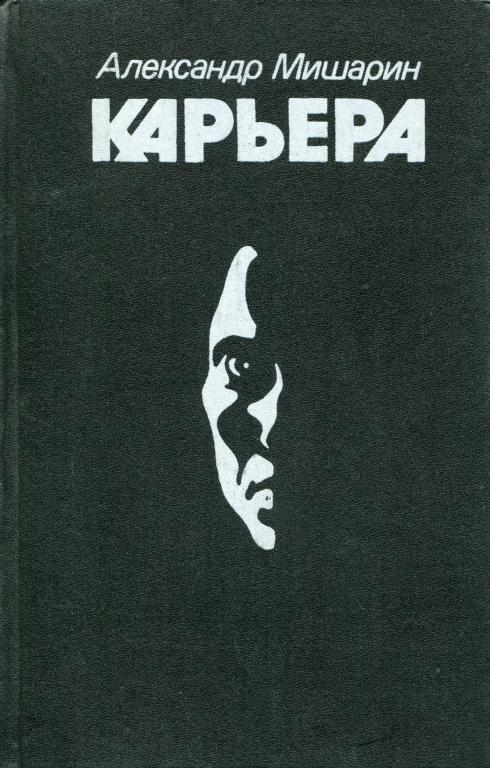низенького журнального стола, пока не было выпито все… Потому банальной обязательностью, Лина и ее друг исчезли на кухне, послышалась перебранка, что-то похожее на оплеуху. Вошла Лина с лицом волшебницы, неся початую, спрятанную в самом тайном тайнике, бутылку, и никто бы не мог заподозрить ее, что только что она шумно выясняла отношения с «любимым». Пришел и он, почему-то сморкающийся и, кажется, только что плакавший… Некоторое время сидел, не поднимая глаз, но пил больше всех, украдкой наливая себе не в рюмку, а в граненый чайный стакан.
— Господи, до чего же несчастливые люди?! — неожиданно горько сказал Сергей, когда они стояли в темноте и ждали хоть какую-нибудь машину на промозглом, ветреном шоссе. — Ведь неглупые, образованные, не бездарные… Чего уж там ломать себя? Перед каким-то дерьмом?
И тогда Корсаков понял, что он — с такой ненаигранной простотой — говорил о себе. Кирилл смотрел на него и думал, что он сам ничего не вынес из всего этого вечера! Ничего не понял в этом новом Сергее. В спокойном, трезвом, задумавшемся мужике, который, по-студенчески подняв воротник довольно легкого пальто, подпрыгивал от холода на ветру пустынного шоссе.
Кирилла Александровича поразила тогда именно его фигура. Она была независима от него самого, от Кирилла, от ночного города, от всякой возможной общности. Это была фигура мужика — случайно и вроде бы против своего желания, — попавшего в город. Большой, чужой и враждебный…
Но это было ночью, а сейчас десять часов утра. Зазвенел телефон.
— Ты живой там? — услышал он голос Тимошина.
— Да! Кажется…
— А я, не то что некоторые, — уже на работе! Функционирую! — засмеялся Серега. — Небось, пивом отпиваешься? А мне — ни-ни!.. Нельзя, брат, служба.
На секунду в трубке было молчание, а потом Кирилл Александрович услышал неожиданно мягкий, по-новому дружеский голос Тимошина.
— Не терзайся! А то вчера, перед этой бабой, такой спектакль устроил!
И снова тихий вопрос:
— Корсак? Неужели ты… «спекся»?
— Почему? — коротко спросил Кирилл Александрович.
— В общем, не психуй! — Сергей помолчал. — А Жигачу я помогу… Ладно! Больно уж баба у него хороша! Не теряйся! Она на тебя глаз положила…
Все эти пошлые слова «Тимоха» говорил задумчиво, даже печально.
— Хочешь, я днем к тебе заеду? Мне тут две беседы надо провести. И сразу заскочу?
— Я к отцу собирался.
— Тоже правильно, — согласился Серега. — Ты пойми…
Он снова замолк. Осторожно, выжидательно, будто борясь с собой, закончил:
— Без дела мы — никто! Не в смысле благ, положения. Отбери его у нас, что останется? — и добавил коротко: — Я тебя понимаю.
Корсакову показалось, что сегодня уже не ему, а Тимошину надо поговорить с ним.
— Ты же один? — словно подслушал его мысли Сергей Венедиктович. — Ну, и посидим на кухне? Побалакаем.
— А на Ирину свою ты… Уже ноль внимания?
— Да ну ее! — Тимошин снова замолчал. А потом почти попросил: — Давай все-таки свидимся? К пяти управишься?
— Буду! — решил Корсаков.
— Только постарайся до этого… Ни с кем не говорить. Не надо! Потом поймешь, — быстрее, чем нужно, сказал Сергей. Кирилл Александрович понял, что «ни с кем» от носилось к Андриану.
— А я кое-что тут пока… «Обомну», — уже радовался будущей встрече Сергей. — Бывай!
Он положил трубку раньше, чем Кирилл Александрович успел ответить. Словно боялся, что тот передумает.
Все утро, пока Кирилл брился, принимал душ, пил кофе, он невольно все еще прислушивался к самому себе. У него было такое состояние, что все его действия, разумные, заученные, обычные, происходили сами собой, без участия его души, без внимания, которое было сосредоточено на чем-то другом, притихшем, новом, почти печальном.
Но это новое ощущение не было ни болезненным, ни мучающим его — как было все последние месяцы! — а наоборот… Оно напоминало выздоровление, покой кончившейся болезни, тот короткий отдых боровшегося организма, который еще не принуждают к активности, к ритму буден. Как солнечный просвет между домами в узкой старинной улице, где он лежал когда-то в больнице (кажется, в Милане) после автомобильной катастрофы лет восемь назад. Нога и ребра быстро срослись, а тяжелое сотрясение мозга давало о себе знать еще года полтора. Ему предлагали отдохнуть, и старый профессор в московской ведомственной поликлинике долго качал головой после осмотра и чтения истории болезни. Но он знал, что этот отдых может затянуться надолго, и верил, что полное его выздоровление только в работе, в текучке, в железном ритме, которому он после этой катастрофы даже радовался и вопреки всему взвинчивал до предела.
Были опасения, не помешают ли эти головные боли его работе. Но нет, семь лет не мешали! Но опасения были… С ним беседовали в управлении кадров, но в последние три года к этому вопросу во время отпусков не возвращались. Да он и сам забыл обо всем этом.
Сейчас, отдыхая после вчерашнего, по-прежнему чувствуя себя непривычно в пустой квартире, он пытался посмотреть на себя со стороны, и единственное, что чувствовал все явственнее, — это странное освобождение — холодный, легкий ветерок пустоты. И одновременно возвращающееся чувство молодости, начала, обновления.
Он машинально поднял трубку и вдруг удивился, что не знает ее номера телефона?! «Чья это была квартира? — Жигача или ее?»
Как она сказала вчера, в фойе? «Ко мне… или к нам?» Но ведь можно узнать, наверное, номер по «09».
Кирилл тихо, замедленно-аккуратно положил трубку и сел в кресло. Он сидел некоторое время в оцепенении. Ничего не понимая, не желая отдать себе отчет ни в чем.
Мимоходом, незначаще, мелькнула мысль: «А почему нет телеграммы от Марины?» Но тут же прошла, не оставив беспокойства.
Он не представлял себе Лину в той ночной, окраинной квартире. Ему казалось, что он просто сидит и ждет ее, и она сейчас войдет сюда, в его комнату в своей клетчатой, коричнево-желтой юбке, в блузке с короткими рукавами… И спросит его: «Чего же ты сидишь? Я готова».
Кирилл Александрович резко поднялся с кресла и вдруг спокойно понял, что скоро увидит ее. Нет никакого — буквально никакого повода! — для волнений. И нет ничего невозможного. Вообще в жизни. Вообще в мире… В его судьбе.