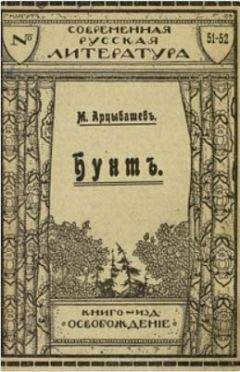Николай Иванович, отец Дмитрия Николаевича, сидел за работой у себя в кабинете, хорошо обставленной уютной комнате. Он был писатель, и теперь кончал один из своих рассказов. Увидев сына, отложил перо и, избегая смотреть на него, что вошло ему в привычку за последние дни, когда между ними явилось это невысказанное неприятное чувство, встретил его притворно-беззаботным возгласом:
— А, это ты… А я думал, ты еще не приезжал.
— Давно уже дома,— ответил Дмитрий Николаевич таким же притворно-беззаботным голосом.
Он сел против отца и, взяв со стола папиросу, стал закуривать. Отец смотрел на него искоса с мучительным и огорченным выражением. Как раз сегодня он говорил с женой о сыне, и у них было решено деликатно поговорить с ним. Но ему хотелось, чтобы сын сам заговорил об этом и тем доказал, что он верит ему и уважает его.
«Кажется, я могу рассчитывать на это?» — говорил Николай Иванович, намекая не на отцовские права, а на свою литературную деятельность, в честности и передовитости которой он никогда не сомневался. Ему казалось, что написать три книги таких рассказов, какие написал он, хорошее и большое дело, и в праве его на уважение и доверие всех никто не может сомневаться.
И ему было очень приятно, что сын начал сам.
— Слушай, папа, — с усилием заговорил Дмитрий Николаевич, притворяясь, что небрежно следит за клубами дыма:— я заметил, что ты мною недоволен, и знаю, за что, но… только…
Николай Иванович, волнуясь, встал и заходил по комнате.
— Ну, да… я знаю, я знаю,— перебил он, мучительно краснея, — что ж, по существу в этом нет ничего такого… и если мы с матерью… то только ради тебя…
Дмитрий Николаевич был очень рад, что отец говорит сам, и молчал, уставившись в узор ковра.
«Но если нет ничего в этом позорного, то отчего же мы все так волнуемся?»— невольно пришло ему в голову.
— Видишь ли,— решившись прямо перейти к этому вопросу, продолжал отец,— я сам был молод, конечно,— он робко улыбнулся,— и небезупречен в этом отношении… да и никто небезупречен, все люди, все человеки,— опять улыбнулся он и заторопился, — это физиологическая потребность, тут ничего не поделаешь, но зачем же подчеркивать это? Если ты чувствовал себя виноватым по отношению к этим жертвам общественного темперамента, то ты мог бы принять такое или иное участие в обществах… благотворительных, но так… право, Митя, выходит некрасиво!.. Ты прости меня…
Дмитрий Николаевич покраснел и еще упорнее стал изучать узор на ковре. Ему ясно припомнилось, что он и сам чувствовал все время что-то грязное в этой истории и не мог понять, что именно.
— Я, ты знаешь,— помолчав, точно дожидаясь ответа и не дождавшись, проговорил отец,— сам не мало поработал над этим вопросом, лет десять тому назад меня даже звали в шутку ангелом-хранителем этих дам, и вряд ли не лучшие мои вещи написаны ради уяснения обществу его ответственности перед этими несчастными!..
Дмитрий Николаевич значительно кивнул головой. Хотя он и говорил сестре о том, что отец вряд ли поймет его, но в глубине души чрезвычайно гордился отцом, как писателем.
— Ну, вот,— обрадовался отец,— и я не могу не радоваться тому, что ты сделал, по идее… но это надо было не так… И, знаешь, раз уже ты запутался, я готов дать тебе денег… пристрой ее в мастерскую… в какую-нибудь. Но самому тебе принимать близкое участие не стоит… Невольно у всякого является мысль о том, где ты с ней познакомился и какие у вас отношения теперь… Хотя я, конечно, уверен, что теперь ничего нет… Это было бы уже совсем… нехорошо!— с искренним чувством сказал Николай Иванович.
Как и сын, он не уяснял и не мог бы уяснить, почему именно это нехорошо, но был твердо в этом уверен. А Дмитрию Николаевичу показалось, что он ударил его этими словами. Он беспокойно зашевелился и бросил папиросу, но в следующую минуту, как и всегда, когда он открывал в себе что-нибудь дурное, Дмитрий Николаевич подыскал оправдание:
«Но ведь теперь совсем не то, тогда было свинство… разврат, а теперь я… совершенно искренно, я…»
Но это оправдание испугало его еще больше, чем слова отца.
И Николай Иванович заметил это по его лицу и, понимая в другом смысле, заторопился кончить свое объяснение:
— Я понимаю, что тебе это тяжело, и мне самому неприятно… Но ты понимаешь, что я решился только для твоего же блага… Повторяю, история, в основании которой лежит самое благородное чувство, благодаря обстановке, так сказать, принимает некрасивую окраску… Притом ты знаешь наши нравы, знаешь, как на это посмотрят… пойдут сплетни и даже, как я заметил, уже и пошли… Об этом постарался Гвоздилов, конечно… Ты сделал большую ошибку, что заговорил с ним… Попросить бы лучше Истаманова, что ли.
И, желая приласкать сына и затереть в нем дурное впечатление от объяснения, Николай Иванович слегка обнял его и ласково проговорил:
— Мы с матерью так любим тебя и уважаем, что нам больно было бы, если бы твое имя хоть одним краем волочилось в грязи… А ты знаешь, что для дурных людей этого достаточно…
В соседней комнате раздался голос его жены и Нюни. И, торопясь, Николай Иванович быстро договорил:
— Не правда ли, с этим вопросом покончено?.. Да ведь и сделал ты совершенно достаточно! Чего ж еще… Передай ей эти деньги и все прекрасно кончится!
Он торопливо отодвинул ящик стола и, вынув, очевидно, заранее приготовленную пачку кредиток, неловким и боковым движением отдал сыну.
— Ты очень добр! — смущенно пробормотал Дмитрий Николаевич.
Они пожали друг другу руки, как два друга. Такие отношения нравились им обоим.
Провожая сына до дверей, Николай Иванович с нежным удовольствием смотрел в его еще нежное, но уже мужественное, красивое лицо и хотел сказать:
«А главное, я боюсь, что ты увлечешься этой… такие благородные, милые юноши легко увлекаются идеей спасения этих тварей; я сам когда-то чуть не женился на проститутке… А это было бы ужасно!»
Но он не сказал этого и вернулся к своей работе с умиленным чувством гордости своим сыном и воспоминаниями о том времени, когда он искренно мечтал спасти проститутку и возродить ее к новой жизни.
«Она ушла тогда от меня… а то бы… И слава Богу, вовремя убедился, что если кто желает их спасения, то это спасающие, а не спасаемые!»
И, закурив папиросу, Николай Иванович серьезно и вдумчиво стал писать.
В тот же день к вечеру Дмитрий Николаевич пешком пошел на Васильевский Остров к одному из своих товарищей, которого очень любил, с тем, чтобы рассказать ему все и попросить совета, как лучше устроить дело с Сашей. Он сам не знал, когда именно пришло ему в голову такое решение, но оно уже было непоколебимо, хотя и мучило его.
Дорогой он все вспоминал, в каком невероятно жизнерадостном и даже блаженном настроении вышел он днем из больницы. Все казалось ему хорошо, мило, прекрасно. И санки извозчика, и галки на снегу, и городовые с усатыми лицами, и собственное тело, в котором было бодрое и куда-то влекущее чувство. Ему было трудно уйти от Саши, и была одна минута, когда он чуть не назначили ей свидание, но, уже выйдя, он вспомнил и застыдился этого желания, хотя оно было приятно ему. И всю дорогу он вспоминал, как медленно и жгуче они целовались, и у него кружилась голова и напрягалось желанием тело.
Теперь он шел сумрачный и расстроенный.
«Отец говорит, что теперь это было бы слишком гадко… И я сам так думаю,— с удовольствием отметил он, что думает совершенно так, как умный и писатель отец.— А если теперь нельзя, то какое же право я имел целовать ее?.. Какое-то имел!.. Было приятно и ничуть не стыдно… А теперь стыдно! Неужели я в нее был влюблен тогда?.. Это глупости… Ведь, что там ни говори, она— публичная девка! И… не могу же я ее любить!»
Но ему было очень приятно вспоминать каждое слово и каждое движение Саши. Ее беленькое платье, такое чистое, пахнущее свежей материей, и так к ней шедшее, мелькало у него в глазах.
«Просто похоть!» — грубо подумал он, чтобы успокоить себя, и хотя всегда считал похоть дурным чувством, но это объяснение его успокоило, так страшна для него была мысль, что он мог бы влюбиться в бывшую публичную женщину, какова бы она ни была теперь.
«И надо кончить все это сразу… Папа прав совершенно! И какой я дурак, у другого бы это вышло просто, легко и красиво, а у меня вышло так грубо, стыдно… и сам я запутался некрасиво!.. Какой я несчастный! Почему мне ничего не удается?.. Ведь я хотел самого хорошего, а выходит грязь!.. А почему грязь?.. Это не потому, что я ее вытащил, и не потому, что я ее целовал в больнице… А почему же?— с отчаянием подумал Дмитрий Николаевич.— А потому, ведь, что на одну минуту я допустил возможность какой-то близости между собой и ею, допустил как будто… что я могу любить женщину, которая всем отдавалась… Я с нею как бы стал рядом, и вместо спасителя стал близким ей человеком!.. Вот и грязь!.. А ведь она в меня влюблена!— вдруг спохватился он с ужасом.— О, как это тяжело все! Надо кончить, надо кончить!.. Конечно, дам ей денег на машинку, на прожитие первых месяцев… И больше никто от меня не может ничего требовать!» — с ожесточением против чего-то, что смутно, но упорно-тоскливо стояло у него в груди, чуть не вслух проговорил Дмитрий Николаевич, подходя уже к дому, где жил студент Василий Федорович Семенов.