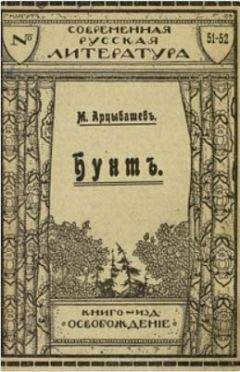Семенов был болен чахоткой, а потому всегда сидел дома, и теперь встретил приятеля желтый и сумрачный от усилившегося к вечеру и от сырой погоды кашля.
— А, это ты,— сказал он, отворяя дверь.
В его комнате, несмотря на открытый отдушник, было сильно накурено табаком, от которого Семенов не отставал, хоть и был болен грудью.
— Опять куришь!— с дружеским и соболезнующим чувством сказал Рославлев, снимая шинель и шапку.
— Все равно…— неопределенно махнул рукой Семенов, и в его голосе не было иного чувства, кроме тупого равнодушия.
— Ну…— проговорил Рославлев, сел и, закуривая папиросу, сейчас же заговорил о том, что его занимало.
— Я к тебе по делу… а?
— Ну?— равнодушно протянул Семенов, морщась от мучительного приступа кашля, который он старался, напрягая грудь, удержать. Ему все казалось, что его болезнь, и кашель, и то, что он выплевывает мокроту, и его постоянно окровавленный, заплеванный платок возбуждают в людях не сострадание, как они стараются показать, а брезгливое чувство. Когда он кашлял или шел в переднюю выплюнуть мокроту, он чувствовал, что на него стараются не смотреть, отворачиваются, и сам себе он казался тогда грязным, противным, мокрым пятном, около которого даже стоять противно. И всегда в таких случаях он сознавал, что не виноват в болезни и в ее симптомах, что имеет право болеть, плевать, кашлять, что никто не смеет презирать его за это, и все-таки страдал и чувствовал страшную ненависть ко всем.
От Рославлева за три шага слышен был свежий, приятный запах холодного воздуха, принесенного со двора, и молодого, сильного человека. Этот бодрый и сильный запах входил в легкие Семенова и был приятен им и мучительно тяжел и ненавистен его, измученному болезнью и страхом смерти сознанию.
— Ну? — повторил он и, не удержавшись, закашлялся, брызнув тонкими, запекшимися губами.
— О, черт!— с бесконечной ненавистью и к себе, и к кашлю, и к Рославлеву прохрипел он.
Рославлев, именно с тем чувством, которое подозревал Семенов, с брезгливой жалостью сильного и красивого к больному и безобразному, смотрел в сторону, но думал не о нем, а о том, как начать.
Когда Семенов перестал кашлять, отошел от плевательницы и сел на кровать, потирая грудь рукою, Рославлев заговорил:
— Помнишь, я тебе рассказывал о той проститутке, что…
— Помню,— ответил Семенов, вовсе не помня, сказал потому, что ему все хотелось перебить здоровый и красивый голос.— По проституткам ходишь…— зачем-то прибавил он.
Рославлев вскинул на него удивленными глазами и, не смущаясь, весело возразил:
— Нельзя…— все люди…— и, уже сказав это, вспомнил о болезни Семенова и неловко замолчал.
Молчал и Семенов, машинально крутя пальцами тощую и маленькую бородку.
— Ну, так что,— спросил он опять.
— Да,— оживляясь, заговорил Рославлев,— я ее оттуда взял и пристроил в приют этот… ну, а она… можешь себе представить, в меня влюбилась!
И при этих словах Рославлев вспомнил Сашу, такую чистенькую и свежую, какою он обнимал и целовал ее в больнице, и ему стало странно, что он о ней говорит «проститутка» таким смеющимся и легким голосом.
— Что же тут удивительного,— улавливая его презрительный тон и почему-то обижаясь за проститутку, точно за самого себя, возразил Семенов.— Ты ее «спас»… спаситель… хм!..
Рославлеву, хотя он был уверен, что это прекрасно и что он точно — спаситель, стало смешно и неловко.
— Нет, в самом деле,— смеясь, говорил он,— влюбилась…— И прежде, чем успел сообразить, прибавил:— и, знаешь, она просто прелесть какая хорошенькая!..
— И ты в нее влюбился?— усмехнулся Семенов, и усмешка у него вышла добродушная.
Рославлев сначала улыбнулся, но сейчас же и ответил:
— Глупости. Какая тут может быть любовь! Просто мне жалко стало, когда она руку поцеловала, ну и… вообще, она хорошенькая, и я же ее знал и раньше.
—Значит, ты и после «спасения» с нею «того»?— спросил Семенов с злой насмешкой.
— Не-ет, что ты!— искренно считая это гадким, сказал Рославлев и покраснел.
— Чего ж ты?
Рославлев замялся, с испугом припоминая то, что было между ним и Сашей в больнице.
— Да что… Я знаю, что это нехорошо!— доверчиво прибавил он, рассказывая Семенову уже все, что с ним случилось.
Семенов молчал и слушал, все так же покручивая тонкие волоски бесцветной бородки и так же удерживая кашель. И в этой комнате с затхлым лекарственным запахом, около маленькой и плохой лампы, в присутствии молчаливого больного человека, с озлобленным на все лицом, было так неуместно и странно то, что он рассказывал, что Рославлев замолчал и смотрел на Семенова.
— Василий Федорович!— позвала тонким голосом мещанка, хозяйка Семенова, из-за перегородки.
— Чего?— отозвался Семенов, не поворачивая головы.
— Чай будете пить?
— Давайте.
Послышалось звяканье посуды, скрипнула дверь, и тощая беременная женщина в платочке принесла синий чайник и другой,— белый, маленький, два стакана из толстого стекла и ситный хлеб. Пока она устанавливала все это на столе, студенты молчали.
— Сами заварите?
— Сам,— ответил Семенов.
Она ушла, натягивая концы платка на тяжелый, круглый живот.
Семенов достал чай и насыпал его в чайник. Рославлев внимательно смотрел на это и в душе у него было недоумелое и обидчивое чувство.
«Чего ж он молчит?.. Знает, ведь, как мне трудно было все высказать, и молчит!.. А, впрочем, чего я от него хочу?.. Он и не пойдет… Лучше просто написать… конечно, лучше написать!»
— Ну, что же ты скажешь?— неловко и против воли спросил он.
— Что?— равнодушно спросил Семенов.
— Да вот… насчет всей этой «истории»?— притворяясь улыбающимся и уже с досадой, весь наливаясь кровью и боясь, чтобы Семенов этого не заметил, пробормотал Рославлев.
— А что я тебе скажу?— сердито отозвался Семенов.— Глупости все это.
— Как?
— Да так… Я тебя и не понимаю вовсе: какого ты черта взялся за это дело и чего теперь мучаешься.
— Странное дело,— обидчиво возразил Рославлев.— Чего взялся?.. А ты бы не взялся?
— Нет,— упрямо сказал Семенов.
— Тем хуже для…— усмехаясь, сказал Рославлев.
— Нет, не хуже!— визгливо крикнул Семенов и вдруг опять мучительно и тяжело раскашлялся. Он хрипел, задыхался, плевался и отхаркивался, и все его тщедушное тело дрожало и извивалось.
Рославлев, не глядя на него, ждал, когда это кончится, и ему было досадно от нетерпения и невольно хотелось крикнуть: «Да перестань ты!..»
Семенов, тяжело дыша, замолчал, вытер наполнившиеся слезами глаза и холодный мокрый лоб и встал.
— Какое ты-то право имел ее «спасать»?— заговорил он, задыхаясь.— Подумаешь, спаситель!.. Спасители…
— Когда человек тонет…
— А другой по уши увяз, — с насмешкой перебил Семенов.— Скажи мне, пожалуйста, ты-то живешь добродетельно?
— Странное дело… сравнительно, — почему то смущаясь, пробормотал Рославлев.
— Сравнительно!..— визгливо передразнил Семенов.— Всякий человек сволочь, и ты сволочь и она сволочь. Ты сам, как и все, так же далек от идеала нравственной чистоты, как и она, а небось, если бы тебя спасать вздумали, ты бы даже в негодование пришел…
— Ну, это что!— протянул Рославлев,— можно все сравнять, а… все-таки она— публичная женщина, а я…
— А ты— человек, который этой публичной женщиной пользуешься!.. А впрочем и не в том дело… Скажи ты мне на милость, за что мы это так презираем эту самую «публичную женщину»? Что они… зло кому-либо делают?.. Ведь у нас воров, убийц и насильников всяких меньше презирают… Себя-то презирать трудно, так давай другого презирать за свои же… А впрочем и это не то,— перебил себя Семенов, махнул рукой и стал наливать чай.
— А, что?— глядя на него с удивлением, спросить Рославлев.
«Нет, его нельзя просить об этом!» — сказал он себе с досадливым чувством.
— Да что… ни к чему все это!— грустно проговорил Семенов и замолчал.
Рославлев помолчал тоже.
— Вот ты говоришь, кому они зло делают,— нерешительно заговорил он, подыскивая слова, чтобы высказать свою просьбу, и не находя их:— а сифилис разве не зло?
Семенов вдруг сдержанно и грустно улыбнулся.
— Болезнь, брат, всякая— зло, самое скверное зло… это я тебе скажу! И сифилис— зло… но только, если бы я мог,— вдруг опять озлобляясь, заторопился он, расширяя зрачки,— так я бы эту дрянь, которая слюнки распускает за всякой бабой, заражается, а потом еще и хнычет, и лечить бы не стал!..
«Нет, его нельзя просить»,— опять подумал Рославлев и встал.
— Ну, ты, брат, сегодня какой-то… Пойду я лучше на бильярде поиграю…
— И я тебе еще вот что скажу,— машинально подавая ему руку и не замечая, что он уходит, продолжал Семенов:— если люди хотят и считают нужным исправлять других, так это прежде всего— их собственное желание,.. ну, их собственная потребность там, что ли… А в таком случае не их должны униженно благодарить за это, а они должны прилагать все старания, чтобы еще удостоились другие исправляться-то по ихнему!.. Вот!