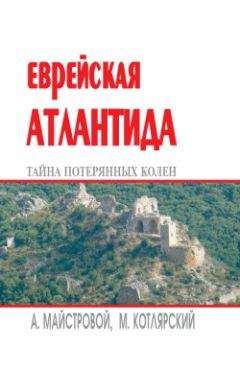слогов?
Слушать музыку, которая озвучивает слова, делает их непохожими друг на друга, заставляет их вызывать удивительные ощущения?
О, загадка слогов!
Начните с городских вывесок.
«Парфюмерия».
Что делает нежным и ароматным это слово?
Слог «фю»!
Отнимите его у слова, и мигом пропадет очарование.
«Конструктор».
Слог «струк»;
словно звук падающего металлического шара, и на этом звуке держится слово, обретая резкость и твердость.
«Бутербродная».
Зайти, заглянуть на минуту, выпить на ходу чашечку кофе и дальше – бегом, бегом, не останавливаясь.
О, эта мимолетность коренится в слоге «брод»; мимолетность, небрежность, торопливость – все в одном слоге.
«…По словам их узнайте то, о чем они умолчать сумели…» (Станислав Ежи Лец)
«По словам…»
По слогам.
По слогам распознавайте тайну слов.
Слова делятся на слоги.
Слоги – нотная запись слов.
Люди – нотная запись вечности.
Вслушайтесь в музыку людей!
Прошлого не существует, оно умирает в нас, едва мы начинаем вспоминать о нем. Потому я давно уже забыл о пестром южном городе, существовавшем в конце шестидесятых, где из каждого окна неслась песня «Я встретил девушку…». Написал песню композитор, который умер молодым; он был представителем той шипучей, шумной, шаловливой, шустрой национальности, что почти через тридцать лет этот город исторгнет из себя, как инородное тело. Впрочем, как ни странно, на самом городе не будет особой вины, город тяжело вздохнет, когда все это будет происходить, но ничего, увы, сделать не сможет, и сие событие станет отправной точкой его угасания.
Но тогда, в конце шестидесятых, шествовало по улицам младое племя; пламя клокотало в его глазах, жизнь казалась свежей и жаркой, пузырящейся, как газированная вода с сиропом: ее разливали в многочисленных киосках, где толпился юркий южный народ. А изо всех окон несся, соловьем соловея, голос известного певца: «Я встретил девушку…»
Ах, эта девушка, которая свела с ума, взяла в полон, разбила сердце, покорила взмахом ресниц, очаровала лукавым движением взгляда!
Девушка из песни, оставшаяся в виртуальном мире шестидесятых.
Когда – позже – об этой девушке напишут правду, она не преминет заметить:
«Я должна признаться, что разочарована Вашими признаниями. Я считаю себя интеллигентным и начитанным человеком, потому могу себе позволить подобную критику.
Я ожидала от Вас чего-то более изящного; что Вы хотели сказать? И кому? Где оптимизм? Я его не почувствовала совсем!..»
Да, племя шестидесятых сплошь шелестело шаловливым оптимизмом, но базировался он исключительно на молодости и ошметках школьных программ, насильно втравленных в сознание.
«Вы – незаурядная девушка, личность! – отвечали девушке из песни. – Как прекрасны Ваши слова об оптимизме!
В самом деле, оптимизмом здесь и не пахнет. Потому что оптимизм – это советская придумка о бодрости духа и вере в завтрашний день. Самые лучшие произведения литературы мрачны по своей сути, очищает только трагедия, комедия забавляет, а оптимизм может, по крайней мере, вызвать улыбку, не более того. Вот почему нет оптимизма и быть не может, да и у Вас самой нет этого оптимизма, есть только желание убедить себя и окружающих, что он есть. А его нет…»
Вот так.
А где, действительно, оптимизм? Где тот оптимальный оптимизм, обтекающий очарованного обнаружившейся перспективой читателя?
Где, собственно, сам читатель?
Да и песня поистрепалась, повыцвела, поизносилась, перелицована на пародийный лад:
«Я встретил девушку, полумесяцем нос…» —
или —
«Я встретил девушку, полумесяцем всё…»
Все кончилось, все ушло, провалилось в тартарары, промоталось, как проматывается наследство; промоталось, как проматывается кинолента в ускоренном режиме; да и сам режим резво поменял вывеску, вернувшись к фривольным феодальным временам с вальяжными феодалами, удалыми управляющими и вострыми вассалами.
А песенка, как уже говорилось выше, позаброшена-позабыта, да и окон, как это было раньше, не отворяют, ибо – по меткому замечанию классика – «открыть окно, что жилы отворить». Сотворить бы отвар, отварить бы зелье, залить бы им глаза по верхнюю риску – риск невелик! – и забыться заветным сном, в котором можно встретить девушку с изогнутыми полумесяцем ресницами – и: не отвернуться от нее в ужасе, не отворотить взгляда…
Напишите мне небо на звенящем, как бубен, холсте; будут петь облака и метаться игривые грóмы, будет дождь свиристеть, будет иволга плакать от счастья, будет рыжей, как звезды, Макарова из десятого «А».
Как она улыбалась! Как сердце мое волновалось! Трепыхалась душа в западне – западне одинокой любви. Исчезали слова, приходили заветные звоны, снились рыжие сны, где Макарова песней плыла.
Я забыл эту песню, я имя ее позабыл, я умчался туда, где палит порыжевшее солнце.
…Нарисуйте мне небо. Пусть тревожно поют облака, пусть Макарова вспомнит, что иволга плачет от счастья…
…Шмель воспоминаний натужно гудит в моей комнате; мерцает его полосатое брюшко, лопасти крыльев стригут воздух, и вдруг… он – воздух – осыпается лукавыми лепестками прошлого.
Собственно, из этих лепестков я и пытаюсь любовно воссоздать гербарий минувшего,
и —
– пока жужжит шмель,
пока плывут в воздухе лепестки, —
у меня есть подручный материал для работы.
Несколько страниц альбома уже готовы,
и – время от времени —
– можно перелистывать их, чувствуя, как исходит от них дискретное обаяние прошлого.
Возможно, это так:
– каким бы ужасным ни было прошлое —
– так или иначе, —
– оно имеет свойство становиться обаятельным.
Для кого-то со знаком «плюс», для кого-то – со знаком «минус»; в конце концов отрицать обаяние прошлого, если уж на то пошло, куда острее и трепетнее, и пронзительнее.
Шалый шмель воспоминаний, засушенные лепестки прошлого, сохранившие и источающие слабый романтический аромат.
Нет, это вовсе не мемуары – упаси Боже! —
– это всего лишь лепестки воспоминаний;
листки, исписанные неровным, подчас прыгающим, танцующим, скачущим почерком, —
– эти листки осыпались лепестками, —
– и то, что мне удалось подобрать, было вброшено на мерцающий экран компьютера:
– «мерцающие мемуары», —
они не дают полного яркого света, полной картины, —
– это всего лишь мерцание прошлого, попытка словить ускользающие блики безудержных дней, вслушаться в шершавый шепот теней.
Валентин Катаев, цитата из которого, словно некая вещая примета, еще появится в этом повествовании, в своем, одном из самых лучших, поздних произведений – «Трава забвения», – соединяя прошлое с настоящим, пытаюсь восстановить распавшиеся звенья звенящего, как монисто, времени, обмолвился:
«Человеческая память обладает пока еще необъяснимым свойством навсегда запечатлевать всякие пустяки, в то время как самые важные события оставляют едва