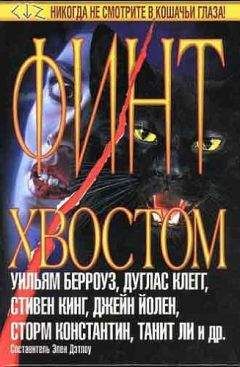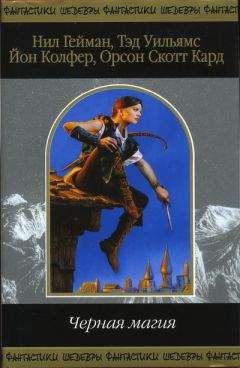у него ружье и отдал одной из женщин. Копье тоже осталось у нее. Йозеф единственный шел на последнюю битву безоружным.
И – кто сказал, что у Всевышнего нет чувства юмора? – он единственный выжил.
Склад размещался не в одном здании, а в трех больших башнях. Схема, нарисованная Хенриком палкой на грязной земле, была очень проста: те, кто с ружьями, идут впереди, безоружные сзади. Они атакуют маленький деревянный домик, в котором живет управляющий, берут его в плен, находят, чем взорвать башни, и исчезают.
– Растворяемся в лесах, – сказал Хенрик.
Йозеф спросил, почему он так уверен, что там найдется взрывчатка. Ответа не последовало. Его игнорировали, на его вопросы не отвечали. И он понял, что целью операции был совсем не взрыв башен. Целью была гибель. Чтобы в свою очередь стать героями рассказов у костра. Даже если партизаны побоятся разжигать огонь.
Хенрик, Гром и Молния и женщина по имени Надя двинулись вперед с ружьями, а следом за ними пошли раввин, Матушка Метелица и третья женщина по прозвищу Hexe – Ведьма, у которой были торчащие вперед, как у кролика, зубы. А Йозеф отстал. Не трусил, нет. После года в Заксенхаузене и четырех месяцев в лесу его уже ничего не могло испугать. Но ему не хотелось умирать за чужую историю. Он хотел умереть за свою.
Он видел, как их срезало пулеметным огнем. О вооруженной охране наверху башен Хенрик не упоминал, потому что сам не знал. Йозеф это видел и не плакал. Он знал, что будет плакать, рассказывая эту историю, – через день, через месяц, через год.
Он вернулся в лес, нашел остатки их жалких запасов, выломал палку для ходьбы – без ножа Хенрика ее не получилось бы заточить и использовать как оружие – и пошел прямо на восток, навстречу восходящему солнцу, к границе, которая больше не была границей. В Польшу. Домой.
Трудно поверить (продолжал он), но Йозеф П. добрался до поместья отчима живым и невредимым. Во время войны случалось и не такое. Кто-то всю войну пересидел у соседей в чулане, а кого-то убили, когда он гулял с собакой. Одна женщина опоздала на поезд, и его подорвали, а другая попросила ее подвести и была убита. Этот ребенок спокойно прожил в лесу три года, а тому размозжили голову о каменную стену в лагере. В этом мире уже не осталось ничего невозможного. Йозеф П. добрался до дома.
Дома он обнаружил, что отчима уже нет в живых: Потоцкого посчитали заговорщиком и застрелили в той самой сторожке егеря, где он так часто свежевал кроликов и снимал шкуру с оленей. Мать Йозефа, все еще привлекательная женщина, теперь была любовницей военного коменданта, устроившего в их доме штаб-квартиру. Йозеф задержался, только чтобы взять кое-какую одежду, рюкзак с продуктами, паспорт, лишнюю фотографию, нож, дорогое охотничье ружье отчима с запасом пуль – он, в конце концов, не был идиотом. Все это собрала для него старая няня. Она же его подстригла, привела в порядок ногти и уложила в свою кровать. До ночи его голова, как в детстве, покоилась на груди нянюшки. С матерью он встречаться не стал.
– Возьми отцовское кольцо, – сказала няня и надела кольцо отчима ему на палец.
– Это кольцо Потоцких, – возразил Йозеф, рассмотрев вензель.
– Твой настоящий отец – он. На самом деле ты его сын.
– Как мама?
– Ах, бедняжечка… Ничего особенно хорошего. Но старик… – Так няня называла первого мужа матери, которого Йозеф всегда считал отцом, – старик был жестоким чудовищем. Извергом. Она всегда любила Потоцкого. А ты – плод этого союза.
Няня поцеловала его и отпустила в ночь. Он так и не узнал, была ли эта история, как и другие нянюшкины истории, рассказанные перед сном, правдой или сказкой. Мать погибла в конце войны: ее повесили местные партизаны. За коллаборационизм. Но сперва сбрили ее прекрасные золотистые волосы. Он больше никогда ее не видел.
Йозеф хорошо ориентировался в лесах вокруг поместья отчима и решил остаться там до конца войны, тем более что ходили упорные слухи: война долго не продлится. Немцам не выстоять против объединенных сил всего мира. Против мести поляков, говорила старая няня. В это он и решил поверить. Забыв Заксенхаузен, забыв все, что слышал раньше. Забыв о смертях, которые видел. Чистая одежда, стрижка, сытый желудок умеют убеждать. Йозеф устал от смерти. Он мечтал о мире. Мечтал о сне…
Пришлось проснуться: вокруг стояли какие-то люди.
Солнце уже встало, яркий свет пробивался сквозь деревья. Сперва он различал лишь тени, удлиненные, темные, угрожающие. Солнце светило в спины мужчинам, склонившимся над ним. Один пододвинулся ближе… и перед Йозефом предстал лик ангела в ореоле золотых кудрей. На мгновенье он решил, что уже умер, это рай, и Алан его нашел. И тут ангел силой заставил Йозефа сесть. Золотые кудри оказались обманом, игрой солнечного света. И на Алана ангел похож не был. Каштановые со светлыми прядками волосы, крючковатый нос, глаза темные, как илистые воды Вислы.
– Ты кто? – спросил он по-польски, потом по-немецки.
Осторожность, прежде ему несвойственная, сейчас взяла свое. Йозеф ответил по-польски:
– Я… я… Принц.
– А что, похож, – заметил задавший вопрос. – Одежда вот…
– Не дури. Что принцам тут делать? Но он на старого графа похож…
– Со стариком немцы разобрались…
– Думаешь, это его сын?
– Мать – предательница.
– Прикончить, и дело с концом!
– Погодите.
Это сказал мальчик. Он встал на колени и закатал Йозефу левый рукав.
– Ты что делаешь? – спросил Йозеф.
– Ищу номер. Надо же узнать, шпион ты или сбежал из лагеря.
– В Заксенхаузене номеров не было.
Мальчик присел на корточки.
– Может, ты еврей?
Он быстро заговорил на языке, которого Йозеф не знал, наверно, по-древнееврейски.
Йозеф покачал головой.
– Ну, на цыгана ты не похож.
Йозеф снова покачал головой.
– Я поляк. Я… гей. Стосемидесятипятник…
Мальчик встал.
– Немец бы никогда в таком не признался.
– Откуда ты знаешь? – спросил грузный человек с растрепанной бородой, наполовину черной, наполовину белой. – Все немцы – скрытые геи. Если он гей, значит, просто признался, что немец. Сам знаешь, все геи – лгуны, болтуны и предатели.
Йозеф наконец поднялся на ноги.
– Это как раз то, что говорит Гиммлер. Может, ты сам – тайный немецкий шпион?
Теперь он смотрел обвинителю прямо в глаза. И тут же получил удар в лицо и рухнул как подкошенный.
Мальчик снова опустился на колени. Теперь он смеялся. Нежно, мелодично. Такого смеха Йозеф не слышал уже много