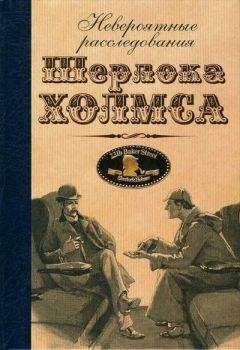из Вильнюса и очень даже в курсе наших дел: жена в Калифорнии, любовница в Тель-Авиве, а он, значит, в Эдинбург приехал. Меня искать.
И нашел, что характерно. Меня ж легко найти. В первый же паб заходишь — и вот она, я. Стою возле стойки, чаем с коньяком обливаюсь.
Нет, говорю, не пойду я никуда. Боюсь потому что. А вдруг вы, милостивый государь, маньяк-убийца?
А я тогда как раз книжку прочитала про маньяка- убийцу. Мне казалось, это самое страшное, что может случиться. Это теперь я уже думаю, что если бы он меня тогда убил быстренько дней за пять, так, может, оно и полегче было бы.
Потому что невыносимо ведь, совершенно невыносимо.
Почему не любил? Конечно любил. Он всех любит: и жену, и любовницу, и работу... И меня тоже, что ж я хуже других что ли? По шкале качества я где-то между любовницей и работой. Как-то так. Примерно.
Но там, в пабе, я ж всего этого знать не знала, ведать не ведала. Вот, говорю, а вдруг ты меня заведешь в темный подвал, изнасилуешь и убьешь?
Он растерялся немножко. Зачем, говорит, тебя насиловать? Ты разве сама не хочешь?
А я смеюсь уже, но все равно страшно. Давай, говорю, свой паспорт, если ты не маньяк. Ну или права, мне все равно. Потом отдам, говорю.
Он помолчал минутку, полез в карман, вытащил права из портмоне, мне протянул. Я их в карман кладу, а он говорит: послушай, а если я тебя изнасилую и убью? Я же потом свои права у тебя из кармана заберу — и все дела...
И у меня страх уже прошел, если честно, но мы все равно пошли к бармену, отдали ему права. Ситуацию объяснили... Что, мол, если я не вернусь, то пусть права в полицию отнесет.
Бармен головой кивнул, но у него прямо на лбу было написано, что он уже прямо сейчас готов в полицию идти.
Идиотизм? Нет, это еще пока не идиотизм. Вот когда утром к нему домой полиция вломилась, вот тогда — да. Настоящий идиотизм.
Это еще слава богу, что мы не любители всяких там связываний, а то представь. Сразу бы стрелять начали, без лишних слов. Хотя, может, оно бы и к лучшему. Может, меня бы зацепила шальная пуля, и я бы кровью истекла. Быстро, за пять минут. А то сколько можно кровью истекать? Она всё не заканчивается и не заканчивается...
А я у него так и осталась после этого.
Нет, не навсегда. На три месяца. Пока он не уехал. Но в каком-то смысле навсегда, конечно.
* * *
...Здравствуй, Кузечка.
Не люблю я это дело — пальцем в клавиши тыкать, но ничего не поделаешь.
Отвалила ты до неприличности внезапно. Машка даже обиделась немножко, но у нее, к счастью, память короткая. А вот я злопамятный, так что с тебя бутылка.
В свободное от работы время я выгуливаю Машку и веду длинные тягостные беседы с Леночкой. Маха меня уговорила. Для диссертации, говорит, сгодится. Я удивился: Понятия не имел, что собираюсь писать диссертацию. Но беременная жена — это страшная сила. У нее такой взгляд мудрый, вроде как она вообще все на свете знает. А уж про меня — и подавно. Я иногда даже верю.
Но тут я заподозрил ее не в бескорыстной заботе о моем будущем, а в банальном эгоизме. Мне кажется, что ей самой с Леной разговаривать неохота. Потому что грузит она, конечно, вполне профессионально. Ровно через час беседы поймал себя на мысли, что я бы на месте ее любовника тоже сбежал. Пытаюсь уговорить ее пойти к практикующему психологу, но пока не выходит.
Она хорошая девочка, умненькая, и я понимаю, что действительно поговорить не с кем, а ей и больно, и страшно. А при этом такое ощущение, что одно неосторожное движение — и она меня крючками через ноздри вытащит, а своего неверного возлюбленного на это место запихнет. И даже присутствие Машки ее не остановит.
Она так смотрит иногда — взгляд туманится, и я уже чувствую, что становлюсь в ее глазах каким-то расплывчатым, смутным и нерезким.
Ты спросишь, какое мне дело до того, чем я в ее глазах становлюсь?
Я тебе так скажу: а черт его знает...
* * *
Ну вот лежим мы с ним в постели после секса. После хорошего такого секса, он вообще лучший любовник из всех, кого я знала. И я чувствую, что полностью удовлетворена, знаешь, когда по всему телу счастье разливается. Счастье и покой. А в груди что-то мечется страшно — нет, не сердце, сердце уже успокоилось, сердце ровненько так бьется, да и вообще я уже засыпаю, тепло так, уютно. А в груди что-то — бах об рёбра, бах, бах. И криком кричит. А я так отстранённо думаю: вот ведь зараза, сломает сейчас ребро, работать потом не смогу.
И знаешь, что обидно: я ведь в постель ложусь только ради этого самого, непонятного, в груди. Оно так рвется наружу, хочет прикоснуться к кому-нибудь теплому, живому. Ну так, погреться.
И я раздеваюсь, прижимаюсь — всё чтобы ему поближе было. Я ж другого способа не знаю. А оно внутри бьется, трепыхается, а мы снаружи тремся друг о друга, и уже забыли, ради чего, и не слышим уже, как там оно внутри. Только потом, засыпая, вздрагиваем. Когда оно бахает отчаянно. Особенно когда по-настоящему хорошо, особенно когда любовь и страсть, и всё сошлось в одной точке — вот тогда прямо страшно становится от безнадежности. Оно там мечется внутри, и понимаешь, что нет шанса, если уж даже сейчас не вышло, то и вовсе нет шанса
Так что я знаешь, что думаю: ну ее на фиг, эту любовь. Лучше уж не дразнить его, а то я боюсь, и вправду когда-нибудь ребро сломает...