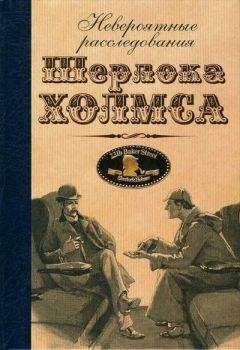Но все равно каждый раз думаешь: а вдруг на этот раз? Вдруг получится? Может, если поглубже как-нибудь? И понимаю сама, что глупости, а все равно надеюсь.
Ну вот, и мы с ним лежим в постели, и всё так хорошо, прямо идеально. И засыпаем уже, он меня еще гладит, но уже медленно, и рука тяжелая. А я так совсем сплю. И вдруг как начинаю плакать, и сделать ничего не могу. Встала, ушла в другую комнату спать. Потому что лучше уж без этого, а то ему ж обидно там, внутри, я понимаю...
* * *
Юлечка, я тебе сразу скажу, чтобы ты ничего плохого не подумала: я очень люблю твою маму. Она это знает и пользуется. Говорит, любишь меня — люби и мою собаку. Ну я и полюбила. Потому что у меня опыта нет. Но теперь появляется постепенно. Я начинаю замечать, что никто не хочет, чтобы его просто так любили. Все какие-то корыстные. Стоит полюбить Мишку, как начинается токсикоз, стоит полюбить тётушку — и в доме оказывается собака Зяма. Почему она Зяма, если она девочка? Тётушка велела спросить у тебя, так вот я спрашиваю.
В общем, к твоим родителям приехали родственники из Питера, а у них аллергия на собаку. Так что мне предложили на выбор: либо приютить на месяц трех родственников, либо одну Зяму. Я, может, и дура, но считать умею. Так что мы остановились на Зяме.
Тётушка уверяла меня, что Зяма чудесно воспитана. Я не знаю, в чем проявляется ее чудесное воспитание. Наверное, она сносно играет на клавикордах и сочиняет стихи на трех языках, как это принято у вас в семье. При этом она ворует всё, что плохо лежит. А всё, что лежит хорошо, она сначала укладывает похуже, а потом всё равно ворует. Украденную еду она не ест (хорошее воспитание не позволяет), а приносит кошке. Если кошка не голодна, собака относит еду в мусорное ведро.
А вчера, ложась в постель, я обнаружила, что моя подушка пахнет псиной. Мишка считает, что Зяма в наше отсутствие приводит сюда какую-то псину и трет ее об подушки. Другого объяснения нет: Зяма ведь никогда не лезет на кровать, тётушка мне об этом двадцать раз сказала. С таким, знаешь, намеком в голосе. Я сразу почувствовала неловкость: мы-то на кровать лезем, и бывает, что по нескольку раз в день...
* * *
И я уже сомневаюсь, то ли был он, то ли я всё выдумала. То ли наоборот, он меня выдумал, а сам исчез. И я теперь обречена бродить по миру печальным суккубом и таять, таять...
Да нет, шучу, не пугайся. Это вечная моя страсть к драматизации. Я когда-то решила, что мне печаль к лицу, еще и тренировалась перед зеркалом часами
Я уже забыла его совсем и вспоминать не собираюсь.
И мне, знаешь, хорошо. Спокойно так, можно работать, ничего не отвлекает. Гуляю по вечерам. Кошку завела.
Только вот иногда по ночам как сдавит горло и начинает в виске стучать: вспомни-вспомни-вспомни.
А в другом сразу же: не хочу-не хочу-не хочу.
А я как будто со стороны смотрю. Только голова трещит по утрам, как с перепою.
Нет, ты что, пить я не могу. От спиртного руки дрожат.
* * *
Юлька вчера по телефону сказала: «Меня окружают сплошные солипсисты. Но разница между ними как между не знаю чем и другим не знаю чем, совершенно не похожим на первое не знаю что. Вот я, к примеру, солипсист-сангвиник. Я говорю: ура, этот мир создан мною. Следовательно, из года в год он становится лучше и прекраснее.
Нель говорит: мужайтесь, друзья. Этот мир создан мною. Но плохо. Поэтому мы все сейчас встаём и идём вкалывать без сна и отдыха, пока мир не станет лучше. После чего я этот мир уничтожу, а сама умру, вот тогда и будете отдыхать.
Олег говорит: я дико извиняюсь, но этот мир создан мною. Поэтому нам всем пиздец. А этот глубокий бокал я хочу поднять за прекрасные глаза присутствующих здесь дам.
А мир, который создал я, вопиюще несправедлив. После того как я злостно проёбываю данный мне шанс, мир подсовывает второй. Я, как все жертвы несправедливости, моментально теряю всяческие ориентиры и вообще наглею, поэтому немедленно начинаю вести переговоры. «Спасибо, конечно, — говорю я, — но сначала ты должен мне пообещать, что, когда я проебу второй шанс, ты предоставишь мне третий. А иначе я так не играю».
Самое удивительное в этой беспримерной наглости — то, что она работает.
* * *
Пылевидная серая масса, оставшаяся от чего-то сгоревшего, стучит в мое сердце.
Тук-тук, говорит. Кто-кто, говорит, тут-тут живет? Тик-так, говорит, ночь на дворе, мрак, град, до полуночи сорок минут. Я тут, говорит, открывай скорей, я замерз, я вымок, от огня не осталось следа — ни ожога, ни всполоха, ни уголька, только я. Так что ты впусти, я тут бьюсь один, вот так, слышишь, тук-тук. До рассвета триста минут, восемнадцать тысяч секунд, я устал, и потом, ты знаешь, не хотел тебе говорить, я совсем сгорел.
Прекрати, отвечает, ну сколько можно, ночь же на дворе, ну ни минуты покоя, я хочу спать. Ты просил огня, заметь, ты сам хотел, теперь жди, может, что-нибудь возродится, ну не феникс, так зяблик, кем ты был до того? Я не помню, да и ты не помнишь, вот по глазам вижу, что не помнишь. Дежавю какое-то дурацкое, такое чувство, что я это уже когда-то забывал. Может, я и виноват, да только не помню в чем. Так что ты давай заканчивай, и так теперь синяк останется, ты же знаешь, какая у меня нежная кожа.
А он смотрит в сторону и носком ботинка ковыряет песок, тук-тук, говорит, тук-тук. До рассвета триста минут, говорит, пять часов, я замёрз, на дворе зима. Я уже не прошу огня, говорит, это было бы просто смешно, но