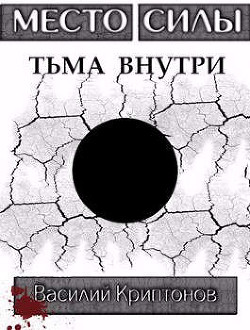усталая, за считанные минуты, что я провел в этом доме, постаревшая, осунувшаяся.
— Спасибо вам, Иван Аркадьевич, на добром слове. Только стесним же мы вас.
— Стесните не стесните — это дело десятое. В тесноте, да не в обиде.
Коля стал проворно засовывать свеклу и лук в ранец.
— Ты чего? — вяло спросила мать.
— Так унесу в поле скорей, как Иван Аркадьевич велел!
Я шагнул к двери, и мальчик, застегивая на ходу ранец, устремился за мной.
Глава третья
ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ
Пожалуй, Клава знала меня лучше, чем я сам. Она спокойно выслушала мой сбивчивый рассказ, так и не выпустив из рук карандаша, которым изредка делала пометки в тетрадях. Стопка их, лежавшая от нее по левую руку, потихоньку перекочевывала на правую сторону стола.
— И что ты все, Ваня, учишь людей, как им надо жить? — наконец сказала она. — Пусть приходит Тоня с сыном к нам. Но, пожалуйста, не заводи ты с ней душеспасительных бесед.
— Почему, Клава? Разве «сеять разумное, доброе, вечное» — не долг наш?
— Ах, оставь! Ты как дитя порой. Неужели твоя Тоня жила бы в этом доме если бы что-то ее не держало там?
— Ну почему вдруг «моя»? У человека несчастье, а ты так рассудочна.
— Хм… Я же сказала: пусть приходят… — и она углубилась в тетради, всем своим видом показывая, чтобы я отстал от нее с такой чепухой, но тем не менее досказала то, что считала нужным сказать: — Она вполне самостоятельный человек, и сынишка не в пеленках. А врачи говорят, что муж ее из больницы не выберется…
— Откуда у тебя такие сведения?
— Я, оказывается, открыла тебе, милейший Иван Аркадьевич, Америку! Да об этом все село знает! А ты из-за своей излишней доверчивости всегда у всех проходимцев на крючке. Да неужели ты до сих пор не сообразил, зачем тебя Чуклаев затащил к себе?
— Зачем? Попрощаться по-соседски, обычай не нарушить.
— Ну, что я говорила? Нет ума — пиши пропало, дорогой! Неужели ты думаешь, для него было главным — посидеть по-соседски с тобой за чаркой, если во дворе уже хлопотали будущие хозяева? Для них он угощенье приготовил, не для тебя — пойми ты это.
Свет от торшера падал сбоку на смолисто-черные волосы жены, и в глазах под нависшими ресницами ничего нельзя было прочесть. Зато она видела и мое замешательство, и мою растерянность.
— Вот ты представь на секунду: если бы не ты, что бы стал делать Чуклаев с Тониной семьей?
Я пожал плечами в полнейшем недоумении. Действительно, об этом я и не подумал вовсе. Тоне, очевидно, пришлось бы бросать работу, отрывать мальчишку от школы, чтобы ехать вместе с Чуклаевыми. Ведь нужно же тому, чтобы кто-то ходил за его больной женой!
Когда я высказал эти туманные соображения, жена отодвинула тетрадки, положила ручку, повернулась, насмешливо глядя на меня.
— И это все, что ты можешь сказать?
— А что еще?
— А то, что, решив продать дом, Чуклаев, как раз напротив, думает развязать себе руки. Разве для него не обуза Тонина семья? Пока муж в больнице и еще жив, трогаться ей отсюда никак нельзя. А, не дай бог, скончается в больнице племянник Чуклаева, обычай-то как раз заставит дядю взять на себя хлопоты о семье. Вот, узнав о безнадежном состоянии племянника, он и торопится. Не может Тоня сейчас с ним поехать, не может…. А поблизости ее устроить не у кого — у всех домишки, как наш, а семьи-то посолиднее…
Клава говорила ровным голосом о том, что продать такой дом, такие хоромины в нашем селе — дело нелегкое, вот и нашел себе Чуклаев покупателей на стороне — в Заозерье.
Меня будто кольнуло. Вот где, оказывается, видел я этого человека — в Заозерье. Посылали с комиссией районо как-то в это небольшое сельцо. Решался вопрос о закрытии там школы — мало детей ходило. Вот мы, комиссия, и посещали каждый дом, говорили с родителями, убеждали перебраться в соседнее большое село, а детей отдать пока в интернат. Именно этот высокий, худой и длинный лесник поразил меня тогда. На шее его поверх рубахи висел оловянный крест, и он к месту и не к месту осенял знамением свою впалую грудь рукой с сухими и длинными пальцами.
«Верующий он, верующий, — подумал я. — Надо потолковать с ним. Не может он вышвыривать Тоню с сыном на улицу из такого-то дома. Да там пять семей устроиться могут! И Чуклаев, видно, верующий — сколько икон у него было!»
— Ну и стратег ты, Клава! — ядовито заметил я. — Так далеко смотришь…
— Далеко не далеко, а разглядела, как ловко тебя Чуклаев одурачил.
— Это как же?
— Да ведь он только и мечтал кому-нибудь Тоню с мальчонком сбыть. Как ты не сообразишь? Не говорить же ему: иди, Тоня, со двора, ищи себе другое пристанище? Ладно, шут с тобой, — примирительно сказала жена. — Я даже рада такому обороту дела: все в доме повеселее будет… Хотя, прежде чем решиться на это, мог бы и посоветоваться со мной. Ты не находишь?
Клава ушла в школу, не разбудив меня.
На столе, рядом с чайником, как всегда закутанным в махровое полотенце, лежала записка.
«Иван! С Тоней я обо всем переговорила. К обеду, до твоего ухода в школу, они переберутся.
Целую К.»
Встал я поздно, вяло позавтракал, собрал необходимое к урокам — на сей раз они у меня были во вторую смену — и бесцельно слонялся по дому. Время текло медленно.
Настроение у меня было далеко не такое, когда берутся за этюдник, но я все-таки вышел в сад, установил свой треножник, взялся за кисть.
Над каким из этюдов продолжить работу? Перебрал десяток набросков, но взор, однако, тянуло не к ним, а на узкую тропинку, что связывала наш двор с усадьбой Чуклаева, за густой зеленью вишен и глухим забором которой слышались голоса, шум моторов грузовых машин. «Гляди ты, — подумал я невольно, — а этот Чуклаев оказался человеком слова — опрастывает домишко для нового хозяина. Возить-то ему есть чего, в один день не управиться!»
Однако скоро я поймал себя на мысли, что непривычно волнуюсь, что не нахожу себе места, и даже кисть в руках не отвлекает меня от дум о Тоне и ее мальчонке, а напротив, меня так и тянет несколькими движениями кисти обрисовать Тонино лицо с большими грустными глазами, с тонкой морщинкой между бровей