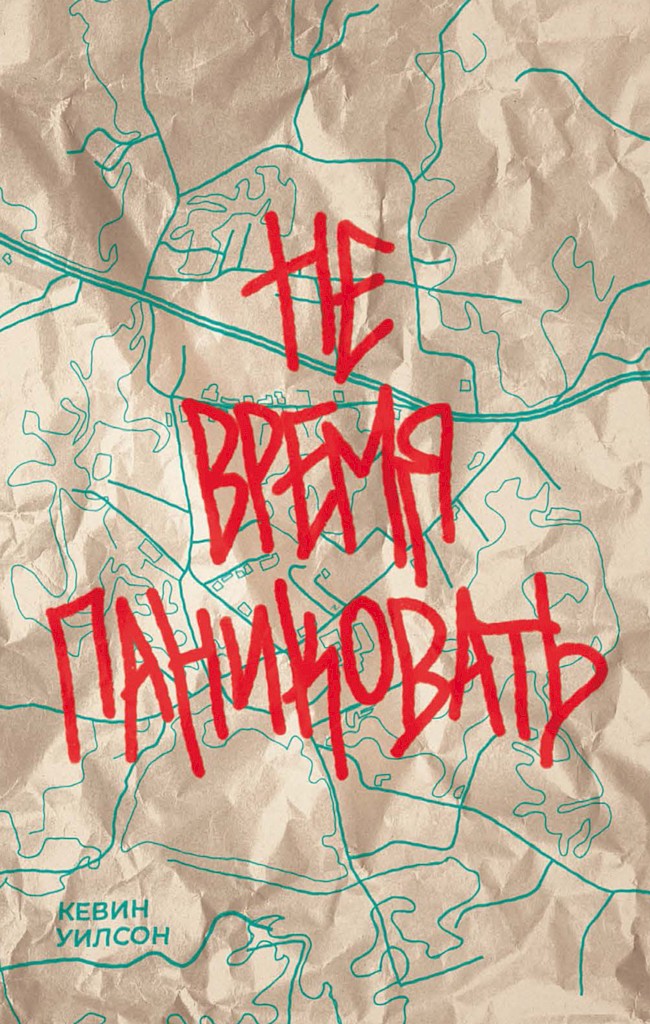что у него их сразу несколько, так как одна из его женщин прознала про другую.
— О боже.
— Ну да, и она позвонила нам домой, чтобы разоблачить перед соперницей, только вот трубку взял я. И она рассказала мне про то, какой он форменный мерзавец, как он плохо с ней обращается, и что мне надо с ним развестись и сделать так, чтобы та, еще одна другая, женщина перестала с ним встречаться, и лишь тогда она подумает, стоит ли ей с ним остаться, ну а я, типа: «Мэм, я его сын», а она: «Ой, малыш, у тебя такой тонкий голос», и я положил трубку.
— Не такой уж у тебя тонкий голос, — заметила я.
— Ну, по телефону я стараюсь быть супервежливым, поэтому говорю нежным голосом. Это несложно. Не это меня взбесило.
— Я понимаю, но все же…
— Спасибо за понимание, но дело в том, что я разозлился и пробил ногой дыру в стене, на шум прибежала мама, и я рассказал ей, что происходит. Мы сели в машину и поехали в отцовский офис, и там она принялась орать на него перед посторонними, а потом, короче…
— Что?
— Если честно, я толком не помню. Иногда, когда я сильно нервничаю, я как бы теряю над собой контроль. Словно впадаю в транс, в ушах звон… Все словно в тумане, и мне жарко. И тогда я бываю бестру… деструктивным. Это случается нечасто, понимаешь? Но иногда бывает. Короче, мама говорит, что я набросился на своего папашу и пытался вырвать ему ногтями глаза и что его сотрудникам пришлось стаскивать меня с него и удерживать. Вроде бы они на мне сидели довольно долгое время. Говорили еще, что я бормотал что-то нечленораздельное.
— Господи, Зеки, — сказала я, но в душе почти жалела, что в свое время не имела возможности проделать такое с собственным папашей.
— Папашина секретарша спросила, не вызвать ли полицию, но он сказал ей этого не делать. Что отвезет меня в больницу или типа того, но мама его послала. Собрала вещи, и мы поехали сюда. Здесь живет моя бабушка. Должно быть, мама тут росла, но она никогда толком об этом не рассказывала, да мне и не кажется, что она испытывает хоть какой-то энтузиазм по поводу возвращения. Так что мы здесь, пока мама не решит, как поступить с отцом. Говорит, что мы можем застрять здесь навсегда, а можем вернуться домой через месяц. Короче, сама не знает.
— Да, — говорю я, — хреново.
— А меня, ну я не знаю, меня тянет обратно. Я скучаю по своему дому. Мне ведь надо в конце лета возвращаться в школу, понимаешь? При этом мне не кажется, что было бы так уж здорово, если бы мама просто взяла и вернулась к отцу. Если он по-настоящему не исправился. Но сколько времени может понадобиться на исправление такому человеку, как он? По-моему, довольно много.
— Мой отец ушел от нас, — сказала я Зеки. — Два года назад. От него залетела его секретарша, и он сообщил об этом маме за несколько дней до годовщины их свадьбы, так как секретаршу бесило, что он не сообщает об этом маме. И вот через несколько дней он с этой теткой уехал куда-то на север. Думаю, он планировал это заранее. Получил перевод по работе. Наверное, с повышением. Не знаю. Он все повторял: «С чистого листа, с чистого листа», но имел в виду себя и эту тетку, да еще этого тупого младенца. У них девочка. И знаешь, как они ее назвали?
— Как?
— Фрэнсис. Так звали мою бабушку, его мать. Я никогда ее не видела, поскольку она умерла, когда я была еще совсем маленькой. Тем не менее это же и мое имя.
— Трындец, — согласился со мной Зеки.
— Я тоже так считаю. И моя мама так считает.
— А он зовет ту дочку «Фрэнки»?
— Боюсь спрашивать. Он сообщил нам о рождении ребенка открыткой, очень изысканной, и в ней было просто написано «Фрэнсис».
— Ты с ним разговариваешь? — спросил Зеки.
— Никогда. Он посылает нам деньги, поскольку обязан это делать, но я с ним не разговариваю. И никогда не стану разговаривать.
— Я не разговаривал с отцом с тех пор, как мы сюда переехали, — сказал мне Зеки. — Все думаю, что он позвонит, но он не звонит. Может, у него нет нашего номера.
— А если он позвонит, будешь с ним разговаривать? — спросила я.
Мне было важно, что́ он ответит.
— Наверное, нет. Не потому, что не хочу с ним разговаривать, просто понимаю, что задену его чувства, если пошлю его. Он вроде бы должен понести наказание, не так ли?
— Должен, — отвечаю.
Мне хотелось схватить его за руку для пущей убедительности, но с парнями я не чувствовала себя естественно. Я вообще не чувствовала себя с людьми естественно. Не любила до них дотрагиваться и не любила, когда дотрагивались до меня. Однако Зеки должен знать: иногда приходится выбирать, на чьей ты стороне. И выбирать в пользу тех — и только тех, — кто не испоганил все на свете. Выбирать надо в пользу тех, кто остался с тобой.
— В общем, — сказал Зеки, подняв на меня взгляд, — мы оба одинаково одиноки, не так ли?
— Видимо, да, — ответила я.
Глядя на Зеки, можно было подумать, что он сейчас меня поцелует. А может, и нет. Я никогда еще не находилась так близко к парню. Знала, что должен наступить момент, поступить некий сигнал, который обычные люди распознают, прежде чем перейти из категории людей нецеловавшихся в категорию людей целовавшихся. Но что это, черт побери, такое? Как я могла быть уверена, что не сделаю этот шаг раньше, чем наступит именно этот момент? Глаза у Зеки были очень темные, но при этом поблескивали. У меня кружилась голова.
— Ты голоден? — спросила я, спрыгнув с дивана. — Хочешь чего-нибудь перекусить?
— Вообще-то… да, — ответил Зеки, — голоден.
Не успел он закончить фразу, как я помчалась на кухню и полезла в холодильник, ощутив на лице дыхание холодного воздуха. Неужели это любовь? Когда вы делитесь друг с другом чем-то сокровенным и стоите рядышком? Я не испытывала к Зеки влечения. Я его толком не знала. Все, что мне было известно, это что у нас обоих оказались облажавшиеся папаши. Все, что я знала, это что мы оба одиноки.
Зеки расположился за кухонной барной стойкой. Я обернулась к нему, закрывая дверцу холодильника. Еды было маловато. Я не знала, что мне делать. В доме шаром покати, и я, чтобы прервать молчание, брякнула:
— Кстати, я