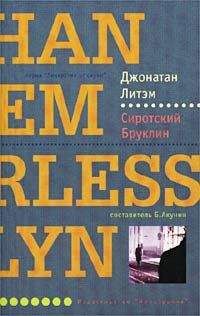бросила университет снова, но не для того, чтобы уехать в Констанц. В Констанц она больше не вернулась. Ее домом стал Берлин.
* * *
Прохладным солнечным утром Мэдхен рассказывала о себе, пока они шагали по Колледж-авеню к станции городской электрички в Рокбридже, позавтракав круассанами с латте в кафе «Медитерранеум». Там они нашли бутик и потратили пару двадцаток на свечи и ароматические палочки. Потом вернулись по той же авеню к Пиплз-парку и присели на скамейку, и она поставила бумажный пакет с покупками на землю. Они с Бруно нашли укромный уголок Беркли под открытым небом, но ее рассказ словно заключил их в защитный пузырь, к которому никто не смел приближаться. В обществе немки человек в маске как будто вознесся к горним вершинам, где стал неуязвим, а возможно, и одухотворен, так что его никак не могли принять просто за эксцентричного обитателя здешних мест. Его больше не волновал ни этот парк, ни то, что было с ним связано. Парк его больше не трогал.
Мэдхен не стала вдаваться в подробности того, каким образом в последующие десять лет она преодолела пристрастие к героину и пришла к увлечению вегетарианством и велосипедом и как стала официанткой в черной маске на молнии, подающей канапе с креветками в богатом особняке на острове Кладов, или как попадала в ситуации, после которых ее тело покрывал слой блесток. У Бруно не было нужды читать ее мысли, чтобы узнать о любовниках, втянувших ее в эту жизнь, о череде мерзких работодателей или о солидарности берлинских секс-работниц. Наркотики, безусловно, остались далеко в прошлом, потому что сейчас пышущая здоровьем Мэдхен была результатом работы хорошего дантиста и коуча, словом, демонстрировала жизненную силу, и на ее фоне бродящие по парку загорелые городские юнцы в дредах смахивали на жертв взрыва нейтронной бомбы.
В тот самый момент когда Мэдхен тронула его за руку и спросила о родителях, Бруно содрогнулся и даже запаниковал при виде старухи, которая показалась на Хейст-стрит и катила перед собой ржавую тележку из супермаркета, наполненную мешками с гремящими алюминиевыми банками. Женщина казалась аллегорией сизифова труда. И, разумеется, это была никакая не Джун. Джун умерла.
– Я здесь вырос. – Она не могла знать, насколько правдивы были эти слова. Но раз уж Мэдхен, поведав о своей жизни, познакомила его с родным Констанцем, то и он привел ее в мучительное святая святых своего детства. Но он не собирался даже произносить вслух имя матери. Тем не менее он почему-то ощущал ее присутствие, словно она вдруг возникла из пустоты, соединив в себе старушенцию, которая, слава богу, удалилась со своей звякающей тележкой, и сидящую рядом с ним на скамейке женщину – Мэдхен с ее странной целомудренной приземленностью. Но его воспоминаниям вовсе не обязательно было сближаться: они могли попросту дрейфовать в пустоте и соединиться в нечто неразличимое – и напугать. Все обездоленные грустные девушки склонны к падению, к попаданию в силки. Кое-кому удается подняться и вырваться из силков, хотя бы отчасти. Бруно немного потешил себя этими мыслями и выбросил их из головы. Мэдхен терпеливо ждала.
– Я никогда не знал, кто мой отец, – произнес он наконец.
– А мать?
О, да вон же она! Но старуха с тележкой уже скрылась из вида.
– Ты не знаешь, твой отец жив? – сменил тему Бруно.
Она пожала плечами.
– Должен быть жив. Иначе мне бы уже позвонил кто-то из его адвокатов, ja? Наверное, мне бы достались его дома.
– Ясно. Если бы моя мать умерла, я об этом даже не узнал бы. Да и никто не узнал бы. – Бруно оставил это замечание висеть в воздухе, подобно сухому обесцвеченному листу.
Ему совершенно не хотелось вызвать у Мэдхен жалость. Жалость Бруно к самому себе уже разрослась горой, так что он едва мог заглянуть за ее вершину. Презрительная ирония Тиры или даже Столарски могла бы взбодрить его куда сильнее. Но в этом была и слабость Бруно. Он всегда находил удовольствие в том, чтобы вызывать презрение у врагов. Одно дело, когда он учтиво обчищал их в клубах или в гостиных у них дома, а затем впивался, как нож в масло, в их богатства. Но теперь, когда сам Бруно был загнан в угол, превратившись в живца с изуродованным лицом, он не мог снести уничижения. Тира и Столарски вознамерились уничтожить его. Он схватил Мэдхен за руку.
– Нам нужно бежать отсюда.
– Откуда? Из Menschenpark? [63]
– Да, и из Беркли тоже.
Маска скрывала охватившую Бруно панику, не позволяя Мэдхен прочитать его мысли. И та терпеливо ждала – как преданный сенбернар. Бруно теперь мог воспользоваться благами того упорного терпения, которое вынудило молоденькую католичку из Констанца увязнуть в запоздалой девственности. Он не нуждался в ее жалости, вовсе нет, но безграничная вера Мэдхен в него была как бриллиант, найденный в мусорной куче.
– Не пойми меня неправильно, – продолжал он, – я рад, что ты приехала, проделав такой долгий путь. Ты нужна мне здесь. Но теперь ты должна помочь мне сбежать.
– Конечно, я это сделаю, Александер.
– Купим машину. – Он услыхал, как беспомощно цепляется за смутные образы легенд о Диком Западе, словно возомнив себя персонажем приключенческого боевика. Машина была символом бегства на Запад, но ничего западнее этого города на континенте не было. Может быть, стоит податься в Биг-Сур, но фантазии Джека Керуака, наверное, уже устарели, их затмили описанные Тирой горячие ванны в скалах Эсалена. Или отправиться в национальный парк Джошуа Три в Седоне. Немцы обожают пустыни и каньоны, Америку марсианских ландшафтов.
– Мне только надо заработать… выиграть для нас немного денег, и мы уедем.
– Хорошо. – Мэдхен улыбнулась и тронула его руку. – Александер, когда ты рассказал мне по телефону о человеке, который встретил женщину на пароме в Кладов, я поняла, что ты мой друг, ja? И что тебе нужно найти выход. Твой голос звучал так, как будто ты был в тюрьме или в туннеле. Но, возможно, тюрьма внутри? Прости, внутри… твоего черепа? Не могу найти слова лучше. – И Мэдхен снова применила свой магический жест: она потянулась рукой к его лицу, но не дотронулась до маски. А потом воздела руку вверх, словно рисуя в воздухе пейзаж, в котором они сидели на скамейке в тени помертвевших, опавших деревьев, а вокруг них простирался парк с извилистыми тропинками, и припаркованные автомобили, казалось, стояли тут на вечном приколе.
– Может быть, внутри, а не снаружи?
– Может быть, и там, и там, – ответил он.
Мэдхен слегка улыбнулась,