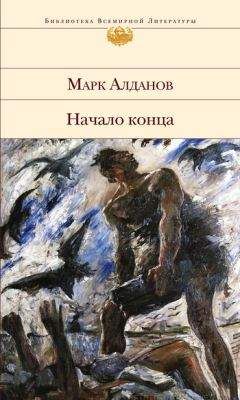Он отодвинул занавеску. Небо было гнетущее, безнадежно серое; место поразило его унылым, почти зловещим видом: тощие мокрые деревья, уходящая вверх к роще скучная дорога. «Какой был смысл устраивать тут кабачок? Неужели только для автобусов? Впрочем, во всей Франции тысячи кабачков существуют неизвестно как и зачем: кормится при них хозяин, больше ему ничего и не нужно. «Taverne du Puits sans vin»? Верно, что-то произошло в этой лачуге сто или двести лет тому назад, люди и забыли давно, что именно, но кабачок, переменив пятьдесят владельцев, сохранил то же название».
Кринолинного вида хозяйка принесла вино, ругнула погоду и из уважения к новому человеку повернула выключатель. Осветились полки с бесчисленными бутылками: полными и пустыми, в стоячем и в лежачем виде. «Vous vous ruinez, patronne»[184], – сказал, смеясь, блузник. Вислиценус отхлебнул вина и задумался о том же: о новой жизни в солнечном Провансе. «В эти часы буду в своей избе заниматься домашним хозяйством: варить уху, что ли? – в самих словах этих было нечто, вызывавшее у него улыбку. – Не забыл ли, как варят, с енисейских времен? На столе свежий хлеб, деревенское масло, соленое, чудесное, бутылка вина, потом чай. В самом деле, что же еще нужно для счастья?..» Ему вдруг стало весело. «А может быть, удастся себя починить на свежем воздухе? Может, лет десять проскриплю – чем черт не шутит? А чем бы еще мог пошутить черт? Вдруг Надя приедет ко мне в гости? Ведь и Кангаров болен. Было бы весьма кстати, если б его похоронили с «Вы жертвою пали…» на Красной площади… Удивительно, что каждый из нас непременно кому-нибудь от всей души желает скорой смерти…»
Допив вино, взглянул в окно – дождь как будто стал затихать. «Нельзя дольше ждать: стемнеет, дороги не найдешь…» «Quel sale temps»[185], – сказала снова хозяйка, получая деньги. «Да, жаль, что жить пришлось в такое sale temps, – весело подумал он, – в XXI веке, верно, будет лучше. Но и в XX ничего, если на юге, на солнце, подальше от людей…» Вислиценус вышел из кабачка и с наслаждением вдохнул сырой – «деревенский!» – воздух. Он направился по указанной ему дороге; подъем был довольно крутой: «Как бы от подъема еще не приключился в гостях припадок, только этого не хватало бы…»
За кабачком потянулся забор с сиротливыми, разодранными афишами, голые кусты, росшие косо – под неправдоподобным углом к земле. Проехал велосипедист, видимо, направлявшийся в кабачок. Мелькнуло еще какое-то жилое строение с освещенным окном. Затем пошли пустыри. День кончался, но еще не совсем стемнело. Где-то вдали просвистел паровоз – в протяжном злобном свистке было что-то совершенно неожиданное, – откуда тут железная дорога? «В самом деле, она сказала, что в санаторий можно ехать и по железной дороге. Вероятно, вокзал по другую сторону…» Из-за дождя Вислиценус шел довольно быстро. «Эх, мокрый приду, башмаки грязные, – подумал он. – Чай будет, надеюсь, горячий…» Он радостно вспомнил о папиросе. «А Надя? Да, все-таки с удовольствием повидаю и Надю… Вот сейчас первый поворот. Второй, должно быть, вон там, где неприятно светится дорога. Неуютно это, когда два света…»
Впереди кто-то показался на углу, оглянулся и пошел дальше, тоже в направлении к второму повороту. «Что это случилось неприятное?» – беспокойно подумал Вислиценус. Далеко, справа, наверху вдруг зажглись правильным рядом крошечные огоньки. «Это, верно, санаторий. Конечно, идти еще минут десять. И полдороги не сделал… Да ведь это тот, что ехал со мной в автобусе! – внезапно с очень неприятным недоумением вспомнил он. – Где же этот субъект был, пока я сидел в кабачке?..» Вислиценус остановился, повернулся назад и увидел, что за ним, на некотором расстоянии, так шагах в двадцати, идут два человека. Сердце у него сильно забилось: это были те самые люди, которые одновременно с ним молча сидели в углу кабачка. «Да, конечно, те же!.. Конечно!..» Несмотря на сумерки, ошибиться было невозможно. «Что такое?.. Неужели?..» Он поспешно опустил руку в задний карман брюк – и с ужасом вспомнил, что вместе с папиросами оставил дома револьвер. Сорвавшись с места, он быстро пошел дальше. «Как же это может быть?.. Майер?.. Да, я ему сказал, куда еду. Но если не Майер?..» Дрожащий красноватый свет на дороге у второго поворота усилился. «Там кто-то едет…» Еще ускорив шаги, Вислиценус снова оглянулся: те тоже шли быстрее. «Нет сомнения!..» Поспешно, почти бегом, он подошел к повороту. Справа, по боковой дороге, совсем близко, очень медленно ехал огромный автомобиль с низкими красными огнями. «Что это!» – сказал шепотом Вислиценус и остановился. Сердце стучало все страшнее. Вдруг он почувствовал боль, ту самую, режущую, нарастающую с бешеной быстротой. «Припадок! Сейчас смерть! Гестапо или ГПУ? Но если ГПУ, то Надя!..» Рядом с шофером сидел рыжий человек с зверским лицом. «Это он! Но где же, где я его видел?!» – задыхаясь от невыносимой боли, успел подумать Вислиценус. Он схватился рукой за сердце. Мелькнул желтоватый дощатый ящик.
«С ума сойти!» – подумала Надежда Ивановна и со вздохом положила на стол прекрасное самопишущее перо с модным, прозрачным резервуаром – подарок Кангарова-Московского ко дню ее рождения. «Разорился на этот «Паркер», – сказал он, вручая подарок и целуя ее (самый обыкновенный отеческий, вдобавок праздничный поцелуй), – хоть и не полагается называть цену подарка, а тебе по секрету скажу: триста пятьдесят франчей…» Она взглянула на часы: четверть шестого. Вислиценус обещал приехать в пять. Правда, точно рассчитать поездку из Парижа в санаторий нелегко: автобусы по этой линии ходят не очень регулярно. «Может, дождь задержал?.. Просидел, верно, часа полтора. До обеда успею еще немного поработать и, разумеется, после обеда весь вечер!..» Надя с некоторой гордостью вспомнила, что, когда вечером работаешь, то потом заснуть трудно: так и у всех писателей, даже у самых настоящих. «Ничего не поделаешь…» Она шла и на бессонную ночь – или, вернее, на бессонный вечер, – через полчаса все-таки засыпала несмотря на напряженную умственную работу.
Ожидание гостя мешало творчеству. «Чуть только распишешься, он, красавец, придет, надо будет спрашивать его о здоровье и делать вид, что очень интересуешься. Зачем я его позвала?» – с досадой подумала Надежда Ивановна. Она пересилила себя – нельзя терять время, – снова взяла перо и стала править конец главы: «Все было объято оранжевым пожаром осени. Под ногами как-то тяжело вздыхали лужи. Евгений Горский вошел в мастерскую. «Еремеич! – светло сказал он. – Нынче выпустим шестьдесят первый. Будем соревноваться, старик. Небось, работаем на оборону, на оборону нашей советской страны!» – «И то будем, Евгений Евгеньевич, – ответил Еремеич, – мы тоже кой-что понимаем, чай, недаром прошли гражданскую». – «Небось, Царицына не забыл, браток?» – «Не такой был переплет, чтоб забыть!..» Недобрый огонек вспыхнул в стальных глазах стоявшего у мотора Карталинского».
С Карталинским дело не ладилось. Человек, выдающий иностранным фашистам и белогвардейцам тайны авиационного производства СССР, очевидно, никакого снисхождения не заслуживал и не мог рассчитывать на снисхождение. Значит, высшая мера? Но применять высшую меру Надежде Ивановне не хотелось. Прежде всего, описывать расстрел нельзя: не напечатают. Надя и не знала в точности, как и где производятся расстрелы; слышала только передававшиеся шепотом рассказы о «корабле смерти», о «черном вороне» – вероятно, устарелые. Да и неприятно описывать казнь, хотя бы казнь диверсанта и вредителя. «Дать десять лет? Нет, за это десяти лет никогда не дадут…» А главное, человек со стальными глазами был не так уж отвратителен Надежде Ивановне: ей было жаль Карталинского.
Надя погрешила против совести: тему выбрала отчасти с расчетом на то, чтобы легче было устроить. Женька, работавший в одном из московских журналов, посоветовал прислать редакции на выбор два рассказа: «Который лучше понравится, тот и поместим» (Надежда Ивановна, конечно, понимала, что «поместим» было сказано для большего величия вместо «поместят»). Он дал еще совет – пусть хоть один из рассказов будет о вредительстве: «Если о вредителях и диверсантах, то нам трудно отказать, тут, понимаешь, запятая». Это не очень понравилось Наде: ее первый рассказ был просто о любви, об одной истории, случившейся с молодой, очень красивой советской девушкой, служившей по дипломатическому ведомству за границей. Сюда никак нельзя было прицепить вредителей и диверсантов.
Второй рассказ пришлось написать иначе. Впрочем, это тоже была история молодой, очень красивой советской девушки, и тоже история любовная, однако на фоне диверсии и вредительства. Действие происходило на авиационном заводе. Надя никогда в жизни авиационных заводов не видела, но на одном из них служил Василий Васильевич, молодой инженер, приславший из Москвы милое письмо – «объяснение в любви не объяснение в любви, а так вроде». Он был портретно изображен под именем Евгения Евгеньевича (Евгений было любимое имя Надежды Ивановны); только глаза были другие, черные, чтобы никто из читателей не догадался, а если догадается сам Василий Васильевич, то ничего, пусть. Евгений Евгеньевич был инженер-летчик. У Нади возникли сомнения: бывают ли инженеры-летчики? Может быть, сами инженеры никогда не летают? Однако для интриги это было необходимо: именно во время полета в душу Евгения Горского закрадывалось страшное подозрение.