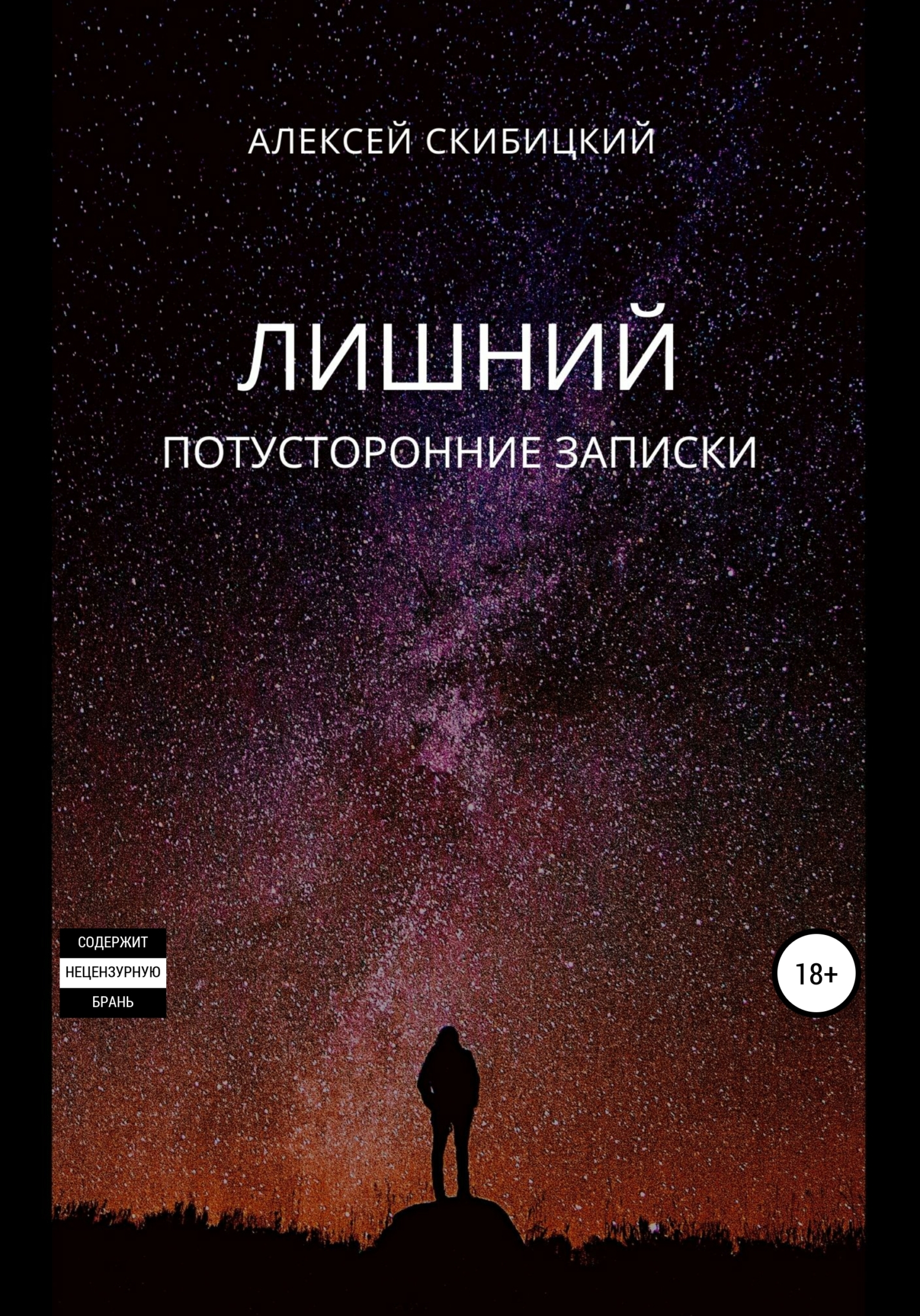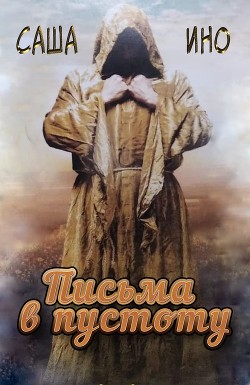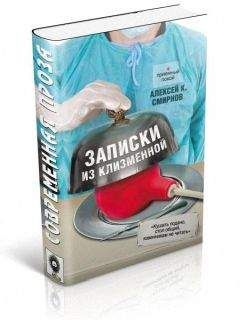была в панике. Она завернула мальчика в его одеяльце, оделась сама, взяла тело на руки, вышла из дома и побежала куда глаза глядят. В себя пришла, только очутившись на каком-то пустыре. Она огляделась. Аккуратно положила малыша под какой-то куст, растущий недалеко от дороги, ещё раз осмотрелась вокруг, встала, и пошла домой. Дома она зачем-то собрала кое-какие Никитины вещи, пришла снова на тот же пустырь и положила свёрток рядом с трупиком, как будто ему могло что-то пригодиться. Голова не соображала. Она находилась словно в какой-то прострации. Мысли путались. Её одолевали разные чувства: это были и чувства огромной тяжести бремени убийцы; это были чувства сожаления о содеянном; это были чувства – непонятно какие чувства, но от них было так совестно и так противно на душе, что впору было самой в петлю лезть; а самое главное, и самое противное, было в том, что она ощущала себя свободной, свободной от всего: от сына, от обязанностей, от семьи, от общества с его моралью, она свободна полностью, и делать теперь может всё, что угодно. Мосты были сожжены.
3.
Утром следующего дня не слишком ещё старый пенсионер, делая каждодневную утреннюю пробежку, в парке недалеко от своего дома, случайно наткнулся на странный пакет с детскими вещами и свёрток, в который был аккуратно завёрнут маленький трупик мальчика. Уже на третий день оперативная группа милиции смогла арестовать мать убиенного младенца, обнаружив её дома, в невменяемом, пьяном виде. Ей оказалась некая Светлана Борисовна Бездомная, которая, немного придя в себя, без лишних отговорок, призналась в убийстве собственного сына.
Её поместили в следственный изолятор, в одиночную камеру. Тюрьма. Если ещё неделю назад, кто сказал Светлане Борисовне, что она будет сидеть в тюрьме, она бы рассмеялась ему прямо в лицо. Где она, и где тюрьма? Вещи, ещё совсем недавно казавшиеся несовместимыми, теперь в одночасье определили её судьбу на ближайшие несколько лет. И что теперь? А теперь ничего, то есть совсем ничего. Не нужно беспокоиться ни о жилье, ни о пище, ни об одежде, ни даже о работе, да практически ни о чём. Всё это, и даже больше, будет предоставлено государством. Теперь остаётся только сидеть и ждать. Ждать суда, приговора, пересылки, и, наконец, своего места в колонии. Всё так просто. Только за этой кажущейся простотой скрываются тысячи покалеченных судеб, жизней, многие из них на свободу уже не вернутся, многие – вернутся, только назад, в тюрьму. Но, как бы то не было, это всё печально, только такая картина вырисовывалась на данном этапе жизненного пути Светланы Борисовны.
Наступила ночь. Света легла спать, но сон не шёл. Она долго лежала с открытыми глазами, и всё думала, думала, и думала. Было тихо. Вдруг дверь, ведшая в её камеру, тихонько скрипнула, и тонкая полоска света из коридора, медленно ползая по полу, затем по стене, потолку, ясно дала понять, что дверь открыта. Всё это было странно ещё и тем, что никакого лязга ключей в замочной скважине, либо звука отпираемого засова, не было слышно. Сначала Света повернула голову в сторону двери, с минуту молча смотрела, затем вполголоса окликнула того, кто мог бы открыть эту дверь. Но никакого ответа не последовало. Холодок пробежал у неё по спине. Что могло бы это значить? Может это кто из дубаков так шутит? Она терялась в догадках. Что ж, нужно хотя бы посмотреть, почему дверь открыта.
Света вышла в коридор. Там было пусто, только мигала лампочка, как в американских фильмах ужасов, где пустой коридор, в какой-нибудь больнице (чаще в психушке), мигающая лампочка, орудующий маньяк или куча призраков, преследующих живых людей. И что дальше? Она пошла по коридору, он был пуст, и было тихо, но было не просто тихо, а пугающе тихо. Эта тишина пугала и давила. Камеры все были закрыты. Ни звука. Она дошла до двери-решётки, дотронулась до неё, дверь тихонько, со скрипом, подалась вперёд. Но дальше коридор хоть и был пуст, но там было темно. Страх парализовал всё тело. Она смотрела в темноту, пытаясь хоть что-то разглядеть, и это стало ей удаваться. Сначала едва заметно стал вырисовываться человеческий силуэт. Увидев человека, ей захотелось крикнуть ему, что она здесь. Но силуэт, постепенно становясь всё более видимым, не был похож на человека в форме надзирателя. Подходя ближе, причём, не издавая при этом не единого звука, силуэт постепенно превращался в молодого, лет шестнадцати, парня, одетого в чёрный костюм; чёрную рубашку, с платиновыми запонками, на которых были вставки из больших чёрных бриллиантов; и чёрные же туфли. Он, держа руки в карманах брюк, ухмыляясь, не слышно, медленно, к ней приближался. Ей пришла в голову мысль, что вся эта пугающая картина, дело его рук. Кто он, и что он, она могла лишь себе вообразить, но размышлять было некогда, и Света бегом ринулась обратно в камеру, не забыв при этом плотно закрыть за собой дверь.
Едва она успела забежать в камеру, и забиться в дальний её угол, как у неё в голове раздался незнакомый, и одновременно такой знакомый голос, что волосы начали вставать дыбом: «Ты ждала меня?». Света что есть мочи закричала: «Нет. Уходи». А голос продолжал: «Как же я уйду. Может, ты меня не узнала? Это же я, твой сын Никита. Не хочешь, чтобы я приходил к тебе, тогда ты иди ко мне». Света сидела не полу, в углу камеры, с выражением непередаваемого ужаса на лице. Тут стены камеры начали видоизменяться. Пространство становилось всё меньше, а стены всё больше становились похожими на старые, гнилые доски. Вскоре окружающее её пространство так изменилось, что ей стало казаться, что она находиться в тесном, уже от времени полусгнившем гробу. Со всех сторон стали лезть отвратительные, мерзкие, скользкие черви. Они были повсюду, на ногах на одежде, на руках, и стали подбираться к лицу. Сначала Света пыталась сбросить эту гадость с себя, с одежды, но когда они стали падать на лицо, и при этом буквально вгрызаться в плоть, она стала их с ещё большим ожесточением, вырывать прямо с мясом со своего лица. Через две минуты у неё остановилось сердце. Всё это происходило в её воображении, но смерть, которая постигла её, была настоящей.
***
Я стоял в камере, и смотрел на окровавленное, распластанное на полу, тело молодой женщины. Она, конечно, не была первой, с кем я поступил подобным образом. Господи! (Да не будет упомянуто имя твоё всуе)