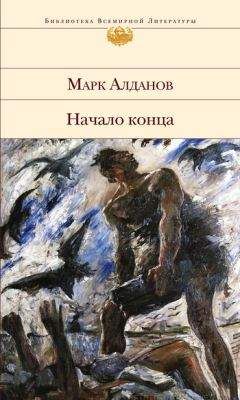– Вы, вероятно, не знаете немецкого языка?
– Ни одного слова! – сердито ответил немец за молодого человека. – К счастью, я владею французским языком, хотя многое забыл. У нас в доме была швейцарская гувернантка.
– Ну вот и отлично, значит, у нас есть общий язык, – сказал Константин Александрович и навел беседу на военные дела. Телохранитель заявил, что в победе не может быть ни малейшего сомнения.
– Почему же вы так думаете? – осторожно спросил Тамарин.
– Потому что весь наш народ ненавидит фашистов. Они воюют из-за классовых интересов, а у нас дух! Ах, какой у нас дух! – горячо воскликнул телохранитель. – Мы голодаем, у нас мало оружия, мы погибаем от пуль, от голода, от болезней, но мы победим.
– Правильно, – сказал Тамарин. «Какие же это у них болезни? Не слышно, чтобы был сыпняк? – невольно заинтересовался он, вспомнив Гражданскую войну в России, – умирать так умирать, но не от сыпных же вшей…» Испанец что-то рассказывал о войне, довольно сбивчиво, отчасти из-за волнения, которое у него вызывала личность советского генерала, отчасти из-за недостаточного знания языка. Впрочем, говорил он на французском бойко, с акцентом забавным, но много менее противным, чем у немца. Из разговора выяснилось, что он сын рабочего из Ируна, работал в мастерской с двенадцати лет, сначала примкнул к анархистам и только позднее понял, что это была тяжкая ошибка, что анархисты группа не пролетарская, а мелкобуржуазная.
– Не так ли? – почтительно обратился он к командарму.
– Да, разумеется, – подтвердил энергично Константин Александрович, произнося мысленно непечатные слова.
– К партии же я примкнул всего два года тому назад, – продолжал испанец. В дальнейшем он говорил о коммунистах просто «партия»; так английские министры, произнося слова «правительство его величества», имеют в виду только британское правительство, а не кабинеты других монархических стран. – После анархистов я было примкнул к троцкистам. Это тоже была тяжкая ошибка. – «Примкнул, примкнул… Эх, дурак мальчишка!» – с сожалением думал Тамарин.
– Дух, конечно, великая вещь, что и говорить, но одним духом против танков и аэропланов воевать нельзя. Нужны еще оружие, порядок и дисциплина, – сказал он не совсем согласно с прежними своими одобрительными словами.
– Das sag ich ja eben[202], – решительно подтвердил немец и даже закивал головой от удовольствия.
– Я нисколько не возражаю, но, конечно, дисциплина свободная, – ответил телохранитель и заговорил о высоких боевых качествах республиканской армии. Шофер слушал с презрительной усмешкой.
– А ваше мнение? – обратился к нему Тамарин.
– Мое мнение? – переспросил по-немецки шофер. – Мое мнение то, что решение конфликта не зависит нисколько ни от Мадрида, ни от Франко. Все будет решено в Берлине. Если господину Гитлеру угодно будет прислать сюда германские войска, то они, разумеется, и победят. А если воевать будут они (он пренебрежительно кивнул на испанца) да еще итальянские господа, то… – шофер махнул рукой.
– Вот как? – спросил Константин Александрович, в душе вполне согласный с немцем. «Только будь ты хоть трижды социалист, а говоришь ты о своем герр-Гитлере не так, как о «die italienischen Herren»[203], – подумал он, подливая себе остаток вина. Испанец неожиданно спросил, знал ли он Чапаева, и, видимо, огорчился, получив отрицательный ответ. Ему очень понравился этот фильм.
– И «Мишель Строгофф» тоже… Правда ли, что царь собственноручно вырывал бороды у бояр? – Только за особо важные поступки. Не чаще двух раз в месяц, – сказал Константин Александрович опять произнося мысленно непечатные слова, и тотчас пожалел о своей шутке. Телохранитель, широко раскрыв глаза, рассказал о зверствах испанских фашистов. Тут были сожжение живых людей, пытки, особенно выкалывание глаз. – Вы сами это видели? – Как выкалывают, не видел, конечно, а трупы с выколотыми глазами видел, – сказал несколько обиженно молодой человек. Тамарин вдруг вспомнил спектакль, на котором был с Надей в парижском театре ужасов. «А может быть, и врешь, пан писарь, – подумал он неуверенно. – Хотя ничего невозможного, собственно, нет…»
– А у вас как? Нет зверств?
– Нет и не может быть, это клевета наших врагов, – ответил испанец тоже без уверенности в тоне. Шофер пожал плечами. – Неправда! Мы просто расстреливаем шпионов, – обратился к нему телохранитель. «Верно, и те, и другие привирают, – утешил себя Константин Александрович. – Вот тебе и театр ужасов! Теперь и в театр ходить не надо…»
За столом, где сидели два испанца, вдруг поднялся шум. Оба старика вскочили с мест и заговорили одновременно очень повышенными голосами. «Что это? Хорошо, что кинжалов при них нет, – сказал Тамарин, – о чем это они?» Телохранитель с любопытством прислушался. Хозяйка кофейни тоже подняла голову, впрочем, без большого интереса. Старики дико орали друг на друга, размахивая руками; лица у них были искажены бешенством. Константину Александровичу, не понимавшему ни единого слова, казалось, что они тотчас бросятся друг на друга. «Так его, валяй», – думал Тамарин, повеселевший от хереса. Понемногу, однако, голоса стали понижаться, от бешеного крика до крика обыкновенного, затем до нормального разговора. Лица у сердившихся осветились улыбкой, они снова сели и заговорили очень просто и дружелюбно. Один из них повернулся к хозяйке, приподнял шляпу и заказал две чашки авельяноса. «Кажется, литературный спор», – объяснил без малейшего удивления телохранитель. Шофер снова пожал плечами и, заглянув в корзинку, сказал с сожалением:
– Ничего не осталось на ужин…
– Поужинаем в Мадриде, – ответил Константин Александрович. Он был доволен завтраком. Общение почти на началах равенства с этими людьми доставляло ему некоторое удовлетворение, его самого удивлявшее: несмотря на революцию и советский строй опыт говорил ему, что такое общение генерала с нижними чинами вредно и недопустимо. «Правда, они испанцы и сознательные… Как только мои солдаты в 1917 году стали сознательными, все пошло к черту…»
Шофер осведомился у Тамарина, знал ли он Ленина. Теперь Константину Александровичу показалось, что немцу хотелось бы и Ленина обозначить каким-либо титулом: «Знали ли вы, ваше превосходительство, его превосходительство Ленина?»
– Нет, не встречал.
– А Сталина? – взволнованно спросил телохранитель. Глаза у него заблестели.
– Тоже не знаю, – ответил Тамарин. Оба его собеседника были, видимо, разочарованы. Разговор стал вялым. «Что, если отсюда написать открытку Наде?» – подумал Константин Александрович. «Здесь, наверное, есть почтовый ящик?» – спросил он. «Очень сомнительно, – ответил немец, – у них почтовые ящики привешиваются к трамваям». – «Конечно, есть ящик! Как раз напротив кофейни», – обиженно возразил телохранитель. Он достал у хозяйки открытку с видом городка. Тамарин вынул самопишущее перо и написал несколько строк. «Я могу отпустить», – предложил шофер. «Да, пожалуйста», – согласился Константин Александрович не совсем охотно: любил для верности отправлять письма собственноручно. Немец взял открытку, бегло взглянул на адрес, увидел слово «мадемуазель» и улыбнулся с видом джентльменского понимания. «Олл раит», – сказал шофер. Как почти все немцы, он был англоман и, ругая англичан, в душе считал их высшей расой. Вернувшись через минуту, он угрюмо-иронически сообщил, что ящик закрыт, и вернул открытку.
– Вы, кажется, написали по-русски? – спросил он. – По-французски вернее. И лучше опустить в Мадриде.
– Почему же нельзя отсюда писать по-русски? – спросил сердито Тамарин. – Ну, поедем, пора. В Мадриде, верно, будем не раньше семи?
– Дай бог, чтобы в восемь. А бензина проклятый гаражист дал маловато. Клялся, что у него больше нет. Хорошо, если найдем в дороге.
– Как же будет, если не найдем?
– Быть может, хватит. Вот только не придется ли сделать крюк у Мадрида?
– Почему крюк?
– Один участок дороги очень опасен. Разрешите показать.
Он вынул тетрадку, на картонной обложке которой было выведено прекрасными каллиграфическими буквами: «Дневник революционного бойца», заглянул в нее, но не вырвал листочка, спрятал тетрадку и на куске бумаги от ветчины провел несколько кривых черт с кружочками.
– Da haben wir Madrid, Puerta del Sol[204], – сказал он, кладя крошку хлеба на центральный кружочек, и стал называть пункты: Мората-Тахуна, Серро Рохо, Карабансель Бахо. Константин Александрович знал приблизительное расположение мадридского фронта и все же не представлял себе, что надо будет проехать так близко от неприятеля. «Хороши у них коммуникационные линии!» Он подумал также, что если б его взяли в плен, то расстреляли бы немедленно без разговоров. Эта мысль была не столь неприятна, сколь неожиданна: в тех войнах, в которых он участвовал, пленных генералов не расстреливали.