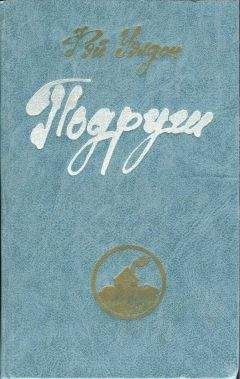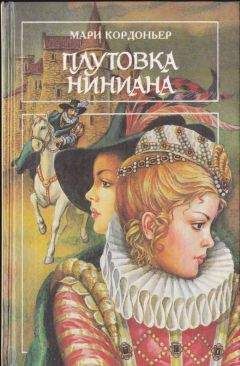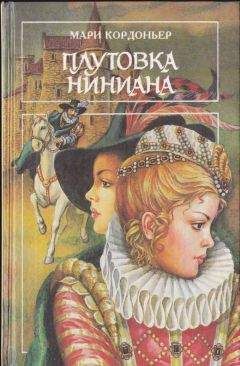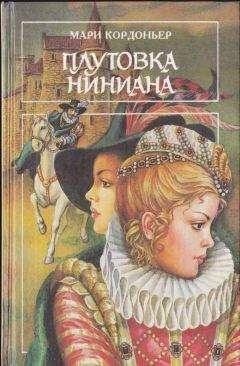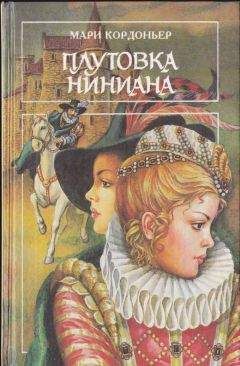Когда-нибудь, когда Стэноп возмужает, закалится, Хлоя скажет ему правду. А он с каждым новым приездом на каникулы выглядит все более хрупким, чутким, ранимым и не закаляется, хоть плачь.
Имоджин — Хлоина любимица. Камень тронется, слушая щебетанье этой плутовки. Любовь Имоджин к Оливеру беспредельна. И Оливер, который проклинает тот час, когда Имоджин родилась на свет, тает перед этой любовью.
Как же Хлое уйти? Как рассечь это хитросплетение нитей доверия, зависимости, надежды во имя такой зыбкой, ненадежной субстанции, как личное счастье?..
Франсуаза поджаривает целых две дюжины рыбных палочек. А что поделаешь? Оливер находит обе пачки в морозилке, где тесно даже его шампанскому, и с невыразимым отвращением к свежемороженым полуфабрикатам натурально извлекает их оттуда и кладет на холодильник, где они в скором времени оттаивают и размякают — либо срочно швыряй на сковородку, либо в помойное ведро.
Хлоя нарезала соломкой четыре фунта картошки. Специальной сетки, чтобы опускать ее в кипящий жир, в доме нет, так как Оливер не признает картошки во фритюре, но Франсуаза прекрасно обходится сотейником и лопаточкой, которой снимают омлет со сковородки.
Хлоя открывает две банки зеленого горошка.
Франсуаза и Хлоя садятся по обоим концам стола, дети рассаживаются между ними. Хохот, шуточки. Стэнопу посчастливилось найти запретную бутылку томатного соуса. Здорово! Оливер раньше полуночи носа не высунет из своей комнаты.
Удивительно всем им хорошо!
— Современный образ жизни много лучше, — говорит Франсуаза, когда они с Хлоей моют посуду.
В гостиной дети смотрят по телевизору фильм «Звездной тропой». Телевизор маленький, портативный. Оливер полагает, что, если уж опускаешься до уровня массовой культуры, а вернее, бескультурья, меньшее зло — купить маленький, а не брать напрокат большой. Детям, кажется, все равно. Чем труднее разглядеть изображение, тем внимательней их жадные взгляды.
— Серьезно? — с неподдельным любопытством спрашивает Хлоя. — Вы уверены?
— Такой жизни, как у моей мамы, я бы не потерпела.
— А разве у вас другая? — машинально спрашивает Хлоя, думая о своем. Настроение у нее переменилось. Почему Оливеру сегодня во что бы то ни стало понадобилось читать Франсуазе, если ей, Хлое, ему вот уже несколько недель читать нечего? Будто нарочно ждал удобного случая ее унизить, пользуясь ее отсутствием. И не просто ждал, кстати, — сам навязывал ей безделье, зная, что оно погонит ее из дому. Да нет, Оливер не способен на такое. Конечно, нет. Тем более когда речь идет о его работе.
— Чем у мамы? Еще бы, ничего общего, — возмущенно говорит Франсуаза.
— Посуду вот моете.
— Да, но суть совершенно иная. Совершенно иные обстоятельства.
Видно, что Франсуаза не на шутку всполошилась.
— Mon Dieu[31], — продолжает она, — в шестьдесят восьмом я сражалась на баррикадах. Меня забрали в полицию. Избивали, не посмотрели, что женщина. Потом выпустили. Мы с товарищами заперлись в актовом зале и объявили голодовку. Я долго не сдавалась. Но нельзя же было, в конце концов, допустить, чтобы меня исключили. Мне был нужен диплом.
— Для чего же?
— Ради моей личной свободы. Ради свободы Франции я сделала все, что могла. Я пострадала за Францию. Но мне важна была и моя свобода.
— И это вы называете свободой?
Франсуаза с таким остервенением трет стакан, что он, того и гляди, лопнет.
— Легче, легче, — говорит Хлоя.
— Виновата, — говорит Франсуаза. — Это, наверно, от усталости. Я не высыпаюсь.
— Зато я высыпаюсь, — говорит Хлоя.
Молчание. Франсуаза сливает в фаянсовую миску жир, в котором жарилась картошка. Хлоя замешивает тесто для булочек на завтрак Оливеру.
— Это временно, — говорит Франсуаза. — Вы должны понять. Дайте срок, и я найду себе работу по специальности. У подруги, на которой женился мой жених, нет высшего образования, она училась на кондитера. Мне бы открыто и свободно вступить в связь с моим женихом, как я и собиралась, а я пошла на поводу у родителей, и они принялись готовить свадьбу по всем правилам. Подруга тоже приехала на свадьбу и сманила жениха. Какое унижение! Как кондитер, подруга зарабатывала больше, чем я в отделе народного образования, и потом, она красивей. У нее тоже растет пушок на лице, но у блондинки не так заметно. И все же больно, когда тебя променяли на такое ничтожество. Я решилась ехать в Англию, ибо в этой стране отношения между мужчиной и женщиной свободные, достойные, честные. В какой другой европейской стране мы могли бы так счастливо жить втроем?
— Вот именно, — говорит Хлоя.
— Хорошо бы моя мама была вроде вас, привечала отцовских любовниц, принимала их в доме. Все равно я-то с ними водила дружбу, от меня они ничего не скрывали. Незачем делать тайну из отношений между полами.
На кой черт сдалась Оливеру эта девица, думает Хлоя. Нелепа, суха, скучна. Или, может быть, как раз поэтому?
Входит Иниго, в руках у него грязная белая майка.
— Полюбуйтесь, — говорит он сокрушенно. — Это же моя футболка. Мне завтра играть, а она не стирана.
— Я выстираю, — с готовностью отзывается Франсуаза. — Выжму как следует, повешу у плиты, и до завтра успеет высохнуть.
В знак благодарности Иниго щиплет Франсуазу за мягкое место. И психолог с дипломом, взвизгнув, подпрыгивает, фыркает, заливается краской.
Хлоя уходит от них, подсаживается к детям и смотрит, как Капитан и мистер Спок расправляются со злокозненными инопланетянами, которые то и дело проникают на космический корабль в образе прекрасных и маловыразительных дев.
Кевин, Кестрел и Стэноп подвигаются на диване, освобождая Хлое место. Это совершается молча, вслепую. Никто ни на секунду не отрывает глаз от экрана. Имоджин, забыв про свои восемь лет, перебирается с пола к ней на колени. Расступились, принимая Хлою, и вновь сомкнулись вокруг нее. У Хлои отлегает от сердца. Женский удел — дети, думает она. Все прочее — сверх программы, роскошь, подачка судьбы.
Судьба! Не будем думать, что ее так-то легко обойти, изменить заданную раз и навсегда схему нашей жизни. Фата-Моргана — дама коварная и своенравная. Мудрейшие из нас знают, как вести себя с нею — желать как бы вскользь, ненароком, никогда не ломиться напролом в надежде или страхе. Допусти самую мысль о поражении — и навлечешь его на себя, а между тем, не допустив такой мысли, поражения не избежать. Думай — но мимоходом, краешком ума. Загоришься желанием, воспылаешь надеждой — я все-таки рожу ребенка, выйду замуж, мне все-таки простится, я все-таки встану на ноги, — и судьба с неумолимой жестокостью отвернется от тебя. Ты прямо чувствуешь, с каким упорством она над тобой издевается. То, чего пуще всего страшишься, — происходит, повторяется снова и снова, и ты — да, ты, и никто другой, — тащишься к старости бездетной, калекой, с камнем вины на шее за смерть близких, и самые горькие страхи твои сбылись, и рухнули заветные надежды.
Не вожделей же, не алкай, не моли, пав на колени, — тут-то и заприметит незримое око твою склоненную голову. Не опережай судьбу, следуй за ней по пятам, крадучись, невидимкой, приноравливаясь к ее поступи. Если у тебя воспалился сустав на пальце, не жди, что завтра заживет. Иначе пройдет неделя, и у тебя станет одним пальцем меньше. Будь начеку. Ох, будь начеку!
У Иниго жар. Ему шесть лет. Хлоя просыпается от его кашля. Идет посмотреть, в чем дело. Три часа ночи, ей нестерпимо хочется спать. Она ставит ему градусник. Температура — за сорок. Хлоя снова ложится в постель. Ей снится, что наутро она находит Иниго мертвым. И что же? Что видит она, пробудясь от тяжкого забытья, когда светает и настает пора вставать? Иниго здоровехонек, температура у него упала. Что произошло, пока тянулась ночь? Ангел ли прошелестел крылами над кроваткой или на смену нерадивой бесстыднице матери спустилась с небес другая, лучшая, уберегла и спасла?
У кроватки моей первый ангел в ногах,
Второй стоит у меня в головах,
Третий молитву мою стережет,
Четвертый душу мою заберет[32].
Этому стишку научил Иниго его маленький товарищ, Майкл О’Брайен. Может быть, стишок его и спас? Кто бы ни спас, но только не Хлоя. Иниго мурлычет стишок себе под нос перед сном, как другие шестилетки убаюкивают себя грубоватыми считалочками, подцепленными на улице.
Который час?
Час сейчас!
Полицейский видит нас.
Мы раздеты?
Ничего,
Можно снять штаны с него[33].
Иниго девять лет. Иниго свалился с крыши гаража, упал ничком. Упал и лежит. Мальчишки сбегаются посмотреть, переворачивают его. Одни в испуге разбегаются по домам, другие бегут за Хлоей. Хлоя прилетает стрелой, белая как мел, белее Иниго, в голове — сумбур и мельтешение и внезапная ясность: это конец. Чем навсегда врежется в память эта страшная картина? Шагов за двести от тебя бессильно распластан на земле мальчик. Твой? Да, твой сын. Почему это выпало тебе, не другой, безвестной матери? Почему он не подымается? Прикидывается понарошку? Или в самом деле не дышит, а ты никак не добежишь, а ноги пудовые, их не оторвать от земли, как бывает в страшном сне. Так вот что предвещали эти сны? Но нет. Иниго жив. Он дышит. Стонет. Лицо у него в грязи и крови, на виске рваная бескровная рана — что там, под этим месивом? Смотреть страшно, а как на самом деле — может, еще страшней? Что делать? Собираются соседи. И длится, длится без конца замедленная съемка. К доктору? Нет, мальчика нельзя поднимать. «Скорую»? Когда-то еще приедет. Некий добрый самаритянин приводит машину.