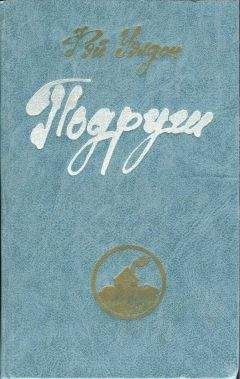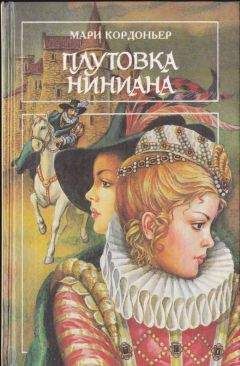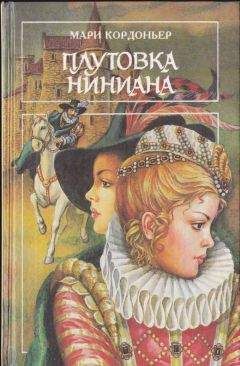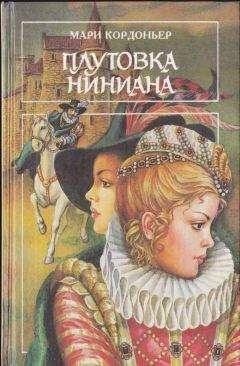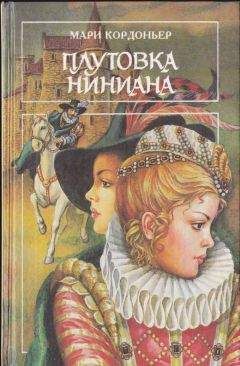Грейс получает дом в Сент-Джонз-Вуде и до поры до времени — возможность смотреть за детьми, хотя вообще забота об их судьбе возложена на Кристи. Он приезжает каждое второе воскресенье, привозит дорогие подарки и нанимает на этот день няню. Дети сбиты с толку и не проявляют должного восторга. Грейс при виде его ведет себя крикливо, взбалмошно и неразумно. От Кристи веет холодом, равнодушием и силой.
Если бы эти двое не любили, каждый на свой ужасный лад, они, возможно, оставили бы друг друга в покое. А так — не могут.
Кристи женится на Джералдин, инспекторе отдела социального обеспечения по работе с детьми. Перед лицом столь мощного подкрепления, не говоря уже о таких фотоуликах, как: 1) две детские зареванные рожицы у Грейс в окне, 2) Петра, простертая в приступе злостного непослушания на тротуаре у входа в галантерейный магазин, и 3) Грейс, танцующая в ночном клубе с чернокожим партнером, — а также о справке от врача, что у Пьера глисты, судьям, по всей видимости, не останется ничего другого, как отдать детей на попечение отца. Тем не менее они продолжают раздумывать.
С разводом Грейс кое-как смирилась, с вторичной женитьбой Кристи — не может. Вероятно, где-то в глубине души таила надежду, что они сойдутся вновь.
Кристи возмущен ее, как он считает вопреки всякой логике, новыми изменами и не устает ей мстить. Он устанавливает слежку за ее чернокожим кавалером, и того привлекают к ответственности по облыжному (а может, и нет) обвинению в торговле наркотиками. Грейс забрасывает анонимными посланиями его заказчиков, друзей и родных и названивает им по телефону, выкрикивая в трубку непристойности.
Они совсем не встречаются друг с другом. Ее адвокаты, завидев ее, съеживаются. Его адвокаты потирают руки. Денежки идут! Они предъявляют судьям грязные письма, которые Грейс присылала Джералдин. Детей присуждают Кристи.
И он похищает их. А как же! Ему мало, если их тихо передадут ему положенным порядком. Это конец. Грейс не может подвергать их снова подобным встряскам. Она любит своих детей. Кристи — нет. Так пусть же они достаются Кристи.
Любовь, как Грейс теперь понимает, только приносит детям вред. Она должна отказаться от них — от них и от него. И отказывается. Прощайте, Пьер и Петра.
Пьер со временем поступает в военное училище, потом — в Оксфорд и наконец — на службу в гвардейский полк. Он неизменно ходит при галстуке, даже по воскресеньям.
Петра учится в частном пансионе, затем — на секретарских курсах. Она замечательно составляет букеты, венки и гирлянды из живых цветов, и в один прекрасный день ее портрет появится на обложке журнала «Сельская жизнь».
Когда их отец (на другой день после своей третьей женитьбы, теперь уже на Калифорнии) погибает в автомобильной катастрофе, Пьер и Петра опять живут у Джералдин, со стороны которой видят прекрасное обращение и ни капли любви. Калифорнии не было и нет дела до Кристиных детей. Ее всегда занимали только Кристины деньги, о чем она говорила открыто и что, как видно, не составляло для Кристи ни малейшей разницы.
Грейс после гибели Кристи не считает нужным хотя бы справиться, что сталось с детьми. До чего бессердечная, говорят все кругом, эгоистка, не мать, а выродок какой-то.
Изредка Грейс посещает кладбище на Гоулдерз-Грин, где покоятся под плитою останки Кристи (предположительно), и мирно сидит на солнышке, словно бы дожидаясь, когда он встанет из могилы, примет прежнее обличье и, затеяв новую склоку, вдохнет в нее боевой задор.
Иногда ее возит туда Патрик. И терпеливо ждет в машине, пока Грейс сидит на кладбище, размышляя о бренности сущего.
Марджори, Грейс и я.
Хороши же мы, нечего сказать, как сограждане, как сестры!
Наша преданность друг другу мало значит в сравнении с нашей преданностью мужчинам.
Мы выходим замуж за убийцу и в душе оправдываем его. Выходим за вора и навещаем его в тюрьме. Мы утешаем генерала, спим с изувером, а если мужчина женат, то, не довольствуясь столь пассивной ролью, хладнокровно терзаем его жену.
Ну и что же. Верность этическим принципам — роскошь, которую могут позволить себе богачи, так испокон веков заведено на свете. Мы, женщины, чей удел пробавляться крохами, скрести, и мыть, и чистить, — мы стараемся ради себя и своих близких, как умеем, обходимся подручными средствами. Мы разъединены между собой. Иначе нам не выжить.
После ссоры за ужином — если подобное избиение позволительно именовать ссорой — Хлоя лежит, натянув на себя одеяло, то плача, то задремывая. Появляется Оливер.
Хлоя удивлена. Обычно, когда она плачет, он предпочитает держаться подальше. Он терпеть не может трагедий. Потом, когда она успокоится, ведет себя с нею как ни в чем не бывало, не возвращаясь больше к размолвке, которая нарушила течение их супружеской жизни.
Сейчас Оливер садится на кровать и гладит Хлою по голове. Хлоя обессилела от горя. В безутешности ее печали есть свое упоение, и Оливер играет на нем.
— Тяжелый выдался день, Хлоя, — говорит он и — небывалый случай! — продолжает: — Ну прости меня. Но ты тоже не должна так себя растравлять. И главное — из-за чего?
— Из-за того, что ты сказал. — Хлое кажется, что это самоочевидно.
— Слова, — говорит Оливер. — Ты же знаешь, им не следует придавать значения. Почему ты их воспринимаешь так болезненно?
Все это очень мило, думает Хлоя, но явно неспроста. Она приподнимается с подушек. Оливер мягко, но настойчиво укладывает ее обратно.
— Лежи-лежи, — говорит он. — Мне нужно поговорить с тобой. Я тоже к тебе прилягу. — Он вытягивается рядом.
И, глядя в потолок, Оливер говорит ей вот что.
Оливер. Ты должна больше верить в мою любовь, Хлоя. Мы с тобой прожили вместе целую жизнь, все наши зрелые годы. Мы неотделимы друг от друга. Если я истязаю тебя словами, то потому, что ты — продолжение меня самого, я говорю тебе то, что хотел бы сказать себе. Вот и все. Ты же реагируешь на каждое слово так, словно тебе каменная глыба свалилась на голову.
Хлоя. Извини.
Оливер. Это очень вредная черта, и оттого, что ты скажешь «извини», ничего не меняется. Ты постоянно стремишься навязать мне общепринятую схему супружеских отношений, которая несовместима с моей природой. Ты хочешь, чтобы я вел себя безупречно. А я не безупречен. Люди вообще небезупречны, то есть временами, может быть, да, но чтобы каждую минуту — нет. Ты испытываешь мое терпение, Хлоя.
Хлоя. Извини.
Оливер. Чего уж там. Я тебя люблю.
Он берет ее за руку. Поглаживает ей руку.
Оливер. Мне нестерпимо, когда мы отдаляемся друг от друга.
Хлоя. Тогда зачем ты меня отдаляешь от себя, Оливер?
Оливер отпускает ее руку.
Хлоя. Извини. Сама виновата, знаю. С тех пор как Патрик…
Он снова берет ее за руку.
Оливер. Да, кстати о Патрике. По-моему, тебе пора забыть про Патрика, Хлоя.
Хлоя. Но как? Если ты не забываешь.
Оливер. Хлоя, ангел мой, ты ко мне несправедлива. Смотри на наш брак как на твердыню, смотри на Патрика как на пришельца, который вознамерился протаранить ее стены — он оставил заметную выбоину, все верно. Однако, что касается меня, я больше не замечаю этого повреждения. Он нанес самому себе куда более чувствительный урон. Он заслал к нам в ворота Имоджин, словно татя в ночи, а она осталась с нами как бесценный союзник. Мы с тобой, Хлоя, выиграли несравненно больше, чем потеряли. И уж если быть до конца откровенным, Патрик, по-моему, втайне предпочитает мужчин и, покушаясь на тебя, в действительности расставлял сети мне. По-настоящему привлекал его я, а вовсе не ты.
Хлоя. Очень может быть.
Оливер. Разумеется, поскольку сам акт предательства все-таки совершила ты, тебя оно мучает гораздо сильнее, чем когда-либо мучило меня. Оно на долгие годы наложило отпечаток на твое поведение. Чувствуя, что твое положение уязвимо, ты ощетинилась — с тобой стало неинтересно. Ты унизилась до ревности. Как глупо — ведь физическая близость призвана доставлять радость, зачем же делать из нее источник страданий? Мы с Патриком были друзьями — ты и тут не могла успокоиться, тебе непременно нужно было вклиниться между нами. Я думаю, женщинам просто не дано постигнуть сущность мужской дружбы, оттого-то они ее и не терпят.
Хлоя. У меня самой есть друзья. Подруги.
Оливер. Вот именно. Когда они тебе нужны, ты бежишь к ним, когда нет — забываешь. Мужская дружба — явление иного порядка, в ней не только берут, но и дают… Милая моя Хлоя. Помнишь ли ты, как бывало у нас с тобой?
Хлоя. Да.
Это правда. Тело ее, во всяком случае, помнит — оно приникает к Оливеру тем же естественным, безотчетным движением, каким младенец припадает к материнской груди.