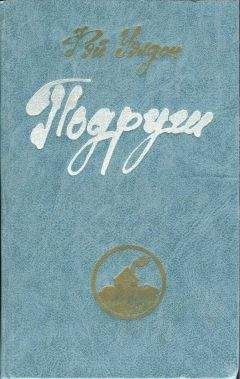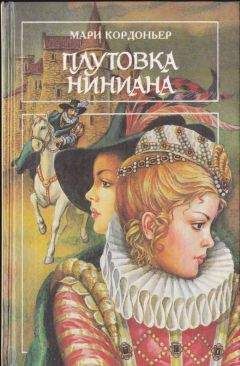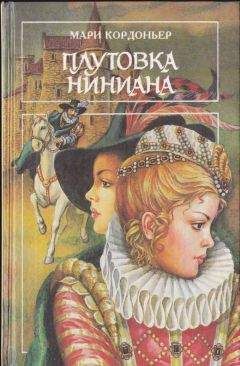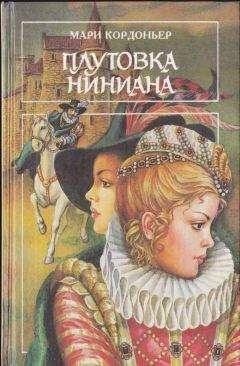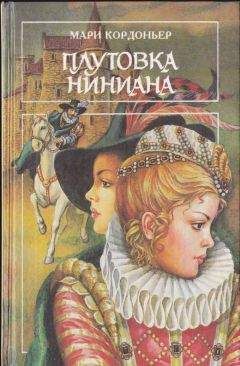Завтрак Оливеру подают на подносе. Он завтракает отдельно от других. Шум и веселое оживление с утра пораньше действуют ему на нервы. Когда ночные ощущения и мысли еще не отлетели, гомон и ужимки детей — по большей части к тому же не его детей — воспринимаются как зловещая шарада, которую нарочно разыгрывают ему в насмешку.
И потому так повелось, что, покуда Франсуаза готовит завтрак детям, Хлоя с подносом идет к Оливеру. После завтрака он пойдет к себе в кабинет писать — или по крайней мере пытаться писать — свой роман.
— Да, — с готовностью соглашается Хлоя, безбожно кривя душой, — ворошить прошлое ни к чему.
Но Оливера не умилостивишь даже готовностью поддакивать.
— Тогда почему ты полагаешь, — спрашивает он, — будто причина моих кошмаров уходит корнями в прошлое? Куда вероятнее, что причина — Франсуазины обеды. Она упорно готовит на сливочном масле. Чем преподносить мне избитые истины из психологии, не лучше ли проследить, чтобы она готовила на растительном?
— Франсуаза родом из Нормандии, — говорит Хлоя. — А не с юга. Привычку к сливочному маслу у них усваивают с детства.
— А ты не думаешь, что она хочет извести меня холестерином? — Это говорится и в шутку, и всерьез. Ночные кошмары рассеялись еще не до конца.
— Если бы ей вздумалось кого извести, — говорит Хлоя, — то, уж конечно, меня.
У Оливера есть на сей счет сомнения. Он делится ими с Хлоей, но теперь вообще не получает ответа.
— Ты не в амурном ли настроении, — говорит Оливер, показывая, что и сам вот-вот готов поддаться соблазну.
— Нет, — жалея его, говорит Хлоя. Она поднимает штору и глядит в сад. Стоит март месяц. Зимняя непогода отступила: из черной земли уже вылезают на припек зеленые стрелки нарциссов. За вечнозеленой тисовой изгородью виден медный шпиль деревенской церкви, с яркой прозеленью у острия. Сердце Хлои радуется.
Однако солнце бьет в глаза Оливеру. Он недоволен, и, спеша избавить его от неприятных ощущений, Хлоя вновь опускает штору, но все же успевает заметить на свободной подушке, рядом с Оливеровой, длинный черный волос — волос Франсуазы. Хлоя снимает волос и бросает в мусорную корзинку. Оливер не выносит неопрятности.
— Извини, что я разбрюзжался, — говорит Оливер. — Насчет Франсуазы — если тебя это задевает, ты знаешь, тебе достаточно только сказать.
— Что ты, меня это не задевает, — говорит Хлоя, и, кажется, говорит правду.
Впрочем, что-то в ней изменилось. Да-да, определенно. Послушайте-ка ее.
— Я думаю сегодня съездить в Лондон, — говорит Хлоя, которая терпеть не может город, давку и машины.
— Зачем?
Она должна подумать и отвечает не сразу.
— Вероятно, повидаться с Марджори и Грейс.
— Зачем?
— Мы друзья.
— Это мне достаточно хорошо известно. Отчего ты себе выбираешь таких странных друзей?
— Друзей не выбирают. Их наживают. Они — наша отрада, но в такой же мере — наш долг.
— Ведь они тебе даже не очень приятны.
Он прав. Хлое иной раз неприятна Марджори, иной раз — Грейс, бывает, что обе сразу. Но не в том суть.
— Откуда ты знаешь, что они найдут время с тобой встретиться? — продолжает он. — Неужели каждый обязан сразу все бросить лишь потому, что ты вспомнила о его существовании? Удивительно, как ты сосредоточена на себе.
— Что же, значит, положусь на судьбу.
— Да и проезд стоит диких денег, — говорит Оливер. — А кто присмотрит за детьми?
— Франсуаза.
— Нельзя столько навьючивать на Франсуазу. Ее дело — готовить, убирать, вести хозяйство. Смотреть за детьми не входит в ее обязанности.
Он ждет, не укажет ли ему жена, что еще не входит в обязанности Франсуазы, но Хлоя лишь замечает миролюбиво:
— Дети и сами за собой присмотрят, не маленькие.
И справедливо замечает.
В полдесятого у Хлои сердце екает от страха при мысли о поездке в Лондон всем наперекор, но в пять минут одиннадцатого наконец-то пробуждается от сна некая добрая фея, и с ее помощью Хлоя вновь обретает мужество. Она звонит по телефону.
Иниго, Имоджин, Кевин, Кестрел и Стэноп размечают на лужайке площадку для бадминтона на предстоящий сезон. Кровные Хлоины дети — старший и младшая. Иниго восемнадцать лет; Имоджин — восемь. В промежутке между ними — духовные чада: Кевин, Кестрел и Стэноп. Их густо приправленный солью стрекот беззаботно порхает по саду, пока Хлоя пытается дозвониться сначала в Лондон, дозвонясь в Лондон — на Би-би-си, дозвонясь на Би-би-си, через бесконечных секретарей и редакторов, — до Марджори.
Подумать только, размышляет Хлоя. Подумать, что эти дети как ни в чем не бывало пускают в ход слова, которые над их колыбелью люди швыряли друг другу в лицо с такой исступленной яростью.
Хотя родной матерью Хлоя приходится лишь Имоджин и Иниго, ей приятно сознавать, что своим появлением на свет обязаны ей все дети. У четырех из них — Кевина, Кестрел, Стэнопа и Имоджин — общий отец, некий Патрик Бейтс. Отец Иниго — Оливер. Мать Стэнопа — Грейс. Мать Кевина и Кестрел, Мидж (законная жена Патрика), умерла. Имоджин, по невинности, считает своим отцом Оливера. От Стэнопа, из соображений, понятных его матери Грейс, и больше никому, скрывают, кто его настоящий отец. И поскольку взрослые с нечистой совестью склонны оберегать детей от правды, возможно, менее жестокой, чем ложь, дети живут в предположительно блаженном неведении, что Стэноп и Имоджин доводятся сводными братом и сестрой не только друг другу, но еще и Кевину и Кестрел.
Так по крайней мере предполагает Хлоя.
Но вот голос на другом конце провода называет себя именем Марджори.
— Что ты звонишь? — спрашивает Марджори. — Что с тобой? Что-нибудь случилось?
— Ничего, — говорит Хлоя.
— A-а. — Возможно ли, что в голосе Марджори звучит некоторое разочарование? — Ты легко дозвонилась? Меня за четыре недели четыре раза переводили в другую комнату. Будь я мужчиной, не посмели бы. Ты знаешь, чем меня сейчас заставляют заниматься? Скучнейшей многосерийкой, просто мухи дохнут. Плод совокупных усилий не одной редакции на протяжении долгих недель. Как мне было сказано. В тринадцати сериях, по роману о жизни разведенной дамы средних лет, жертвы современных нравов и зыбкости современного общества. Это мне в наказание за то, что для разнообразия попросила себе детективный сериал «Автомашины Z». Нравятся полицейские и воры — получай дамские терзания, не говоря уж об ассистентах режиссера, которых никак не уволишь, поскольку они сидят здесь с незапамятных времен.
Хлоя весьма отдаленно представляет себе, о чем ведет речь Марджори, но не может не восхищаться ею за способность пробивать себе дорогу в этом мире и зарабатывать деньги. При всем том у Марджори нет ни мужа, ни детей, что Хлоя расценивает как большое несчастье и что, несмотря на сознание собственного ничтожества, придает ей — домашней хозяйке, которая вырвалась на денек в Лондон и ничего не смыслит в контрактах и режиссерах, — решимости спросить, не пообедает ли Марджори с нею сегодня.
— Эта французская девка все еще живет у вас? — спрашивает Марджори.
— Да, — говорит Хлоя голосом, в котором слышится: ну и что из этого?
— В таком случае, — говорит Марджори, — я обедаю с тобой, а два бездарных режиссера и еще более бездарный автор подождут до другого раза. Ибо яснее ясного, что должно случиться. Она не удовольствуется твоим мужем. Ей понадобятся также твои дети и твой дом. Года не пройдет, как тебя выпрут и ты останешься ни с чем.
Какой упрощенный взгляд на вещи у незамужних, думает Хлоя. Что она понимает, Марджори? Она говорит это вслух.
— Я с утра до ночи читаю сценарии, — возражает Марджори, — в них это происходит сплошь да рядом. Я, если можно так выразиться, отлично знаю жизнь с чужого голоса. А в жизни, как уверяют мои сценаристы, такое делается, что нарочно не придумаешь. Гляди, не подсыпали бы тебе яду в суп. Ну, стало быть, полпервого в «Итальяно».
Она бросает трубку, не сказав Хлое, где находится ресторан, — редкое умение давать одной рукой и отнимать другой.
Марджори, Грейс и я.
Кто бы поверил в детские годы, когда мы втроем вступали в жизнь, что Марджори сумеет ворочать важными делами, перестанет лить слезы, подлаживаться, задабривать, усвоит этот деловитый и саркастический тон? А тем более — что она будет зарабатывать шестнадцать тысяч фунтов в год.
Бедная маленькая Марджори, с грушевидной фигурой, мелкокучерявой головой и жирной кожей, с печальными, полными недоумения глазами и острым умом, продирающимся сквозь обманчивую видимость, точно хлебная пила, которой кромсают замороженную рыбину. Отвергнутая вновь и вновь, не сломленная, но из честности не умеющая скрыть, что ее опять отвергли.
Вот уже двадцать пять лет, как Марджори, по ее словам, не плачет. Все слезы выплакала в детстве, объясняет она, не осталось ни капли. (У Грейс, наоборот, теперь глаза на мокром месте, а в детстве всегда были сухие. Может быть, каждому из нас назначено пролить за свою жизнь столько-то, и не больше. Моя мать согласилась бы с этим.) Заодно со слезными протоками у Марджори, похоже, высохло и все остальное. Лоно, кожа, грудь и мозг. Правду сказать, она усохла у нас на глазах уже давно, когда умер ее Бен, любимый и единственный. И лишь раз в месяц, всегда точно в полнолуние, обнаруживается, что в ней иссякли еще не все соки.