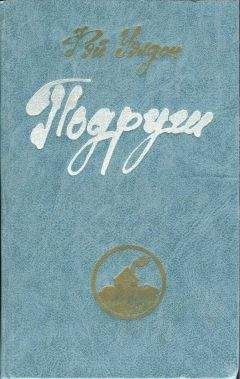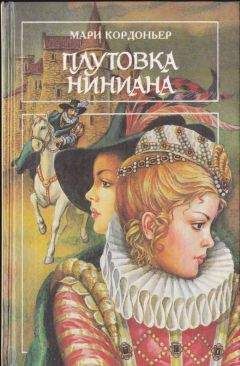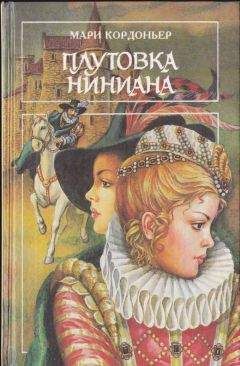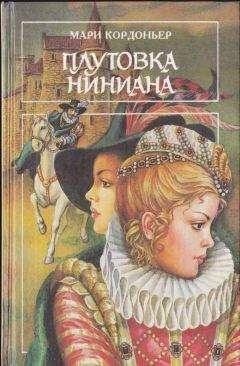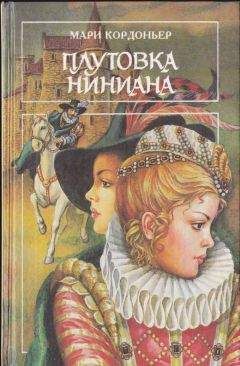Вот уже двадцать пять лет, как Марджори, по ее словам, не плачет. Все слезы выплакала в детстве, объясняет она, не осталось ни капли. (У Грейс, наоборот, теперь глаза на мокром месте, а в детстве всегда были сухие. Может быть, каждому из нас назначено пролить за свою жизнь столько-то, и не больше. Моя мать согласилась бы с этим.) Заодно со слезными протоками у Марджори, похоже, высохло и все остальное. Лоно, кожа, грудь и мозг. Правду сказать, она усохла у нас на глазах уже давно, когда умер ее Бен, любимый и единственный. И лишь раз в месяц, всегда точно в полнолуние, обнаруживается, что в ней иссякли еще не все соки.
Бедная маленькая Марджори, которой досталось вести жизнь мужчины, предаваясь плотским утехам, когда и если представится случай, поневоле довольствуясь тем, что существуешь сама по себе. Бездетная, лишенная возможности красть по мелочам из прошлого и будущего, какою услаждаем себя мы, остальные, более плодовитые, более властно вовлеченные в безостановочный поток поколений, и по-прежнему наделенная, себе на беду, телом и естественными влечениями женщины.
Десять пятнадцать. Если Хлоя рассчитывает к обеду попасть в «Итальяно», ей нужно поспеть на поезд одиннадцать пятнадцать до Ливерпуль-стрит. И раньше чем уехать из дому столь внезапно, нарушив плавное течение жизни по привычному руслу, ей, естественно, предстоит за это откупиться.
Прежде всего — объяснение с детьми, которые, конечно, пожелают узнать, куда она едет, и зачем, и что им привезет в подарок — без этого ей не получить от них негласное добро на отъезд. Итак.
Имоджин (8 лет). В Лондон? А мне с тобой можно?
Хлоя. Нет.
Имоджин. Почему?
Хлоя. Тебе будет неинтересно.
Имоджин. Нет, интересно.
Хлоя. Да нет. Я еду поговорить с друзьями, вот и все.
Иниго (18 лет). Если неинтересно, зачем ты едешь?
Хлоя. Иногда приятно бывает отлучиться из дому.
Стэноп (12 лет). А дома разве неприятно?
Кестрел (12 лет). Ты нам привезешь что-нибудь?
Хлоя. Постараюсь.
Кевин (14 лет). Друзья — женщины или мужчины?
Хлоя. Женщины.
Иниго. Да уж, будем надеяться.
Имоджин. А почему мне тоже нельзя? Здесь делать нечего. Только в бадминтон играть, а мне надоело.
Хлоя. Тогда помоги Франсуазе.
Имоджин. Не хочу помогать Франсуазе. Я с тобой хочу.
Стэноп. Увидишь маму, привет ей. Это ты с ней едешь повидаться?
Хлоя. Ты же знаешь, твоя мама переехала на новую квартиру. Должно быть, ужасно занята.
Имоджин. Раз уж ты уезжаешь, то можно у нас будет на обед жареная рыба с картошкой? Из кафе?
Хлоя. Это очень дорогое удовольствие.
Кестрел. Кататься в Лондон — тоже.
Хлоя. Ну, хорошо.
Иниго. Тебя отец отвезет на станцию? Хлоя. Едва ли. Он работает.
Иниго. Тогда я тебя подкину, так и быть.
О доблестный Иниго. На той неделе он сдал на водительские права.
Дальше очередь Франсуазы, которая колдует над маринадом, бурча себе что-то под нос. Это плотная девица, волосатая и смышленая, не особенно красивая, зато в высшей степени чувственная на вид. Сей вид дан ей от рождения и объясняется не столько свойствами ее натуры, сколько низким лбом и короткой верхней губой.
Франсуаза. А что я дам детям на обед?
Хлоя. Они просят рыбу с жареной картошкой.
Франсуаза. Но это расточительство.
Хлоя. Разок не страшно, в виде исключения. Проедетесь в деревню, Иниго вас отвезет.
Франсуаза не возражает. Она даже улыбается.
Хлоя. Дивный запах у этого маринада.
Франсуаза. Мясо будет вымачиваться всего лишь четыре часа. Это недостаточно. Его следовало опустить в маринад с вечера, но я утомлена и вследствие этого становлюсь забывчивой.
Хлоя. Если хотите завтра взять выходной…
Франсуаза. Завтра мне нужно готовить lièvre для воскресного ужина. Это любимое блюдо Оливера. Как будет lièvre по-английски?
Хлоя. Заяц.
Франсуаза прошла серьезный курс английского языка, однако не перестает совершенствоваться.
После Франсуазы — Оливер. Но Оливер, ожесточась из-за ее отъезда, сменил возражения на безучастность. Он работает у себя в кабинете и на этот раз действительно стучит на машинке. Обычно, когда ей в утренние часы случается нарушить его уединение, он бездействует, задумчиво глядя в окно.
Оливер. Ну что, значит, уезжаешь?
Хлоя. Да. У тебя хорошо подвигается?
Оливер. Пишу письмо в «Таймс». Его не напечатают.
Хлоя. Отчего же? А вдруг.
Оливер. Не напечатают, потому что я его не отошлю.
Хлоя. Не хочешь мне почитать сегодня? Ведь поездку можно спокойно отложить.
Оливер имеет обыкновение читать законченные куски Хлое и лишь после этого править их.
Оливер. Не говори глупости.
Он вновь поворачивается к машинке.
Это не восторженное напутствие, но все же — разрешение ехать.
Пока Иниго выводит из гаража «мини», Хлоя по новому номеру звонит Грейс в Холланд-Парк и спрашивает, где находится «Итальяно».
— Ох, это лучше не знать, — говорит Грейс.
— Прошу тебя. Я тороплюсь.
— Шепердс-Буш, в конце бетонной дорожки. Макароны не опасны, от телятины держись подальше.
— И потом, Грейс, ты не поговоришь со Стэнопом? Сейчас в школе каникулы. Пасха. Он вчера приехал. Позвать его к телефону?
— Некогда, я укладываю чемоданы, — отвечает Грейс. — Мы с Себастьяном вечером улетаем в Канн. Стэнопу я пришлю открытку. Он будет доволен. Он, в сущности, вовсе не рвется со мной разговаривать, и ты это прекрасно знаешь. Он изнывает от неловкости, когда мы говорим по телефону. Что у нас общего, в самом деле? Любишь ты, Хлоя, пилить.
— Он же твой сын.
— Это ты вспоминаешь, только когда тебе удобно. Кевин и Кестрел тоже небось у тебя?
— Да.
Наступает молчание. Многие считают, что Грейс повинна в смерти Мидж. Мидж, матери Кевина и Кестрел.
— Великомученица ты наша, — единственное, что находит нужным сказать по этому поводу Грейс. — А французская девка уже небось забралась в постельку к Оливеру?
— Да. Угадала.
— Поздравляю. Ну что же, лови момент. Удобный случай вышвырнуть Оливера из дому, подать на развод и жить потом весь век на его деньги.
— Не хочу.
— Что именно? Разводиться или жить на его деньги?
— Ни того, ни другого. Мне правда пора. Я опоздаю на поезд.
Грейс обожает подробности. Будь то трагедия или злодейство, роды, изнасилование, инфаркт, автомобильная катастрофа, убийство или самоубийство — рассказчику давным-давно осточертеет его история, но Грейс не успокоится, пока не выведает все детали, не докопается до мельчайших подробностей. «Хорошо, но что он при этом сказал? А она не кричала? И глаза выкатились? А в каком положении его нашли? Что, баранка прямо насквозь его проткнула? Да, но где они могли сжечь послед?» — Грейс знает все про последы и что их по правилам следует сжигать. А если роды принимают на дому и сжечь негде, то акушерка должна отнести послед в мусоросжигатель родильного дома. Иначе он может угодить в лапы к ведьмам.
— Ты после обеда не зайдешь ко мне сегодня? — говорит Грейс.
— Могу, — говорит Хлоя, и сердце у нее падает. Отчего? Ведь они с Грейс — подруги.
— С кем ты обедаешь?
— С Марджори.
— Я так и полагала, — говорит Грейс. — Никто, кроме Марджори, ногой не ступит в «Итальяно» под страхом смерти, а смерти ей не миновать, если отведает минестроне. Привет ей от меня, и передай, что я надеюсь, она не вздумает выкупать свои усы в супе.
И, сказав Хлое свой новый адрес, она кладет трубку.
Грейс, которой давно перевалило за сорок, живет с Себастьяном, которому двадцать пять лет. Хлоя считает себя выше ее в моральном отношении.
Грейс, Марджори и я.
Кто бы мог поверить в те детские далекие годы.
Грейс, такая талантливая, такая отважная и отчаянная, живет теперь за счет мужчин. Впрочем, так уж устроен мир, не она первая, не она последняя, а жить как-то надо каждой.
Грейс жалуется на долги, на возлюбленных, с которыми невозможно ладить, а у самой, как ни поглядишь, всегда найдется дом, который можно продать, гравюра Рембрандта, чтобы отдать в заклад, кто-то, кто пригласит поужинать или согреет в постели. Нас, остальных, пугают бедность, лишения, разлука, одиночество, старость. Грейс пугает отсутствие хорошего парикмахера. Прежде чем стать такой, она, несомненно, прошла, наподобие павловской подопытной собачки, суровую выучку, обжегшись не раз и не два, но подозреваю, что далеко не последнюю роль тут сыграли и природные наклонности.