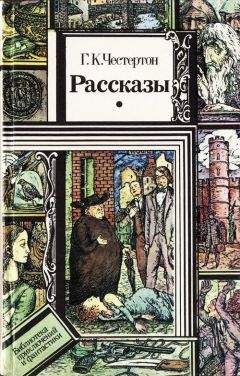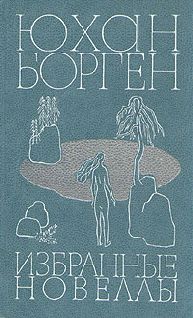Он бредет вдоль берега моря, ни до чего ему как будто нет дела. На чистом, почти летнем небе сияет солнце. Море чуть наморщилось, не грозное, не враждебное, но и не мертвенно-призрачное. Только до этого ему сейчас и есть дело, только эту реальность он признает, беззаботно бредя вдоль берега нынешним утром, которое кто знает во что выльется после. Раздумывая о своей беззаботности, он чуть натужно радуется, да и можно ли не радоваться ей, помня о скверне, охватившей мир, о войнах и переворотах, о голодающих детях, о взрослых, которых пытают в звуконепроницаемых гаражах, где палачи обливаются потом, избивая дубинками и плетьми политически неблагонадежных профессоров, музыкантов, государственных деятелей, требуя у них сведений о единомышленниках, будто бы угрожающих режиму, медленно выбивая из них жизнь. Вот о чем думает человек, бредя вдоль берега моря в трех-четырех часах лёта от этих мест преступления. В мире не счесть таких мест, но сейчас он бредет вдоль моря и ничем не может помочь.
Мысль эта приглушает радость от сознания, что сам он в безопасности и покое, но и только - она не приводит его в отчаяние, не исторгает у него крик боли: вздумай он закричать, это было бы лишь грубым притворством. Да, вздумай он изображать по этому случаю скорбь, это было бы непристойной ложью и лицемерием при том, чем он занят сейчас. А занят он тем, что прогуливается вдоль моря, раз-другой пробует закинуть блесну, вытаскивает ее, зная, что закинул впустую, но нисколько не сетуя на бесцельность прогулки. Он не из тех, кто взял бы на себя бремя вселенской вины, не в его это натуре, да и вообще ни к чему. Где-то в душе его (в самом заветном ее уголке) тлеет тоска: ему не по себе от мысли о всех несчастных, о жертвах, не по себе от мысли, что сам он рад бы забыть о них и их муках. Но он не чувствует, что все это происходит сейчас, в этот миг, не чувствует истинного вживания, боли, которая, допусти он ее до себя, захлестнула бы его с головой, швырнула бы оземь. Бывают, говорят, люди, которые исходят кровью при одной лишь мысли о том, кого распяли на кресте две тысячи лет назад. Но он не из таких. Он может прослушать кассетную запись песен Теодоракиса, ощутить при этом мимолетную "греческую" боль, но разве может он, положа руку на сердце, поклясться, что при этом страдает? Напротив, в сердце -великая тишина, чреватая взрывом, как аура, которая окружает мину: пусть мина размером с картофелину, но тот, кто вздумал бы отбросить ее ногой, сразу лишился бы обеих ног, а не то и рук, челюсти, подбородка... Он может остаться в живых, пусть с одной лишь правой верхней половиной лица, пришитой к шее, в свою очередь прилатанной к обрубку тела, в котором по-прежнему бьется сердце, бьется, пульсирует, гоня кровь в другие обрубки, без иной связи между собой, кроме той, что обычно как раз и создает сердце своей упрямой работой, стимулируемой, скажем, электрическим прибором, в лучшем случае способным обслужить конечности с приживленными к ним кусками мяса, а также органами, взятыми у кур и свиней. Но смотри-ка, у самой кромки воды лежит какой-то предмет, круглый "миноподобный" предмет, издевательски похожий на человеческий череп; конечно, может, это самый что ни на есть обыкновенный поплавок от рыболовной сети, один из этих старомодных шаров, что, отслужив свое, порой валяются здесь в песке, день и ночь омываемые волнами; чем угодно может оказаться этот предмет - здесь по сей день плавают мины, на погибель людям замаскированные в свое время под невинные поплавки. Такие вот штуки, когда-то, видно, рожденные хитроумными головами в подземных лабораториях, но ныне давно уже устаревшие, нелепые, если взглянуть на них опытным взглядом эксперта... да, и все же их много плавает здесь, сколько раз приходилось об этом читать. А что, если тронуть шарик ногой, тронуть совсем легонько, взглянуть, как он перекатится, обнажив скрытую свою сторону, будто обратную сторону Луны, да, Луны, по какому такому праву Луна скрывает от нас свое лицо? В тот самый миг, когда нога коснется его, чтобы перевернуть, шарик откроет истинное свое лицо, но кому? Уж конечно, не тому, кто ударит его ногой, стремясь узреть обратную его сторону. Неужто нет границ человеческому любопытству? Да, поистине нет границ. Он тронул шарик ногой, но шарик этот упрям, он даже не шелохнулся, лежит себе в мокром песке как и прежде, не переворачивается, не открывает истинное свое лицо, так где же ты, взрыв? Я призываю тебя, призываю тебя, смерть, разом кончай эту игру, это неведение... Удар! Да, как на футбольном поле в былые дни, в дни детства. ("Бей!" - кричали ему с полупустых трибун. "Пли!" - и он рад был бы увидеть, как вратарь падает замертво, лишившись вдруг рук и ног, - только бы мяч угодил прямо в ворота.)
- Пли!
Крик его повис в пустоте. Смешался с однообразными криками чаек. Взрыва нет. Никаких аплодисментов с пустых трибун. И все равно взрыв где-то внутри, в сознании, в голове - он вдруг схватился за нее, продолжая стоять на берегу моря... Прикинулся перед самим собой, будто кто-то видел, слышал его великолепный удар. Разве не крикнули ему: "Бей! Пли!"? Он не стыдился сейчас своей игры, просто он - жертва самовнушения, навязчивых представлений. Волна отнесла шар от берега. "Опасно для судоходства", - вдруг мелькнуло в мозгу. И другие слова: "Мина обезврежена"...
Обезврежен опасный "предмет", впрочем, как оказалось, он ни для кого не опасен, даже и для того, кто ударил его ногой. Но будь это мина (а он и вправду однажды видел, как саперы обезвредили подобный предмет) - да, тогда бы он теперь уже не стоял у моря, а, вероятно, лежал бы в песке поверженный человек, труп или в лучшем случае полутруп, расколотый, разрубленный взрывом вдоль или поперек. А скорее всего - мертвец.
Он плавал бы в иле, мертвец, который всего лишь секунду назад был человеком. Так вполне могло быть, и все потому, что он ударил шар ногой, вообразив, будто это футбольный мяч и к нему возвратилось детство, он снова мальчишка на стадионе, и друзья в азарте кричат ему: "Бей!", "Пли!" Те же слова, возможно, кричали солдатам, вершившим казнь у опушки леса - ныне там высится памятник казненным, к подножию которого всякий раз утром 17 мая 1 приносят венки. А может, при казнях в ходу совсем иные слова команды? Как знать, ему ни разу не доводилось присутствовать при казни, но, должно быть, все происходит примерно так. Говорят, одна из винтовок всегда заряжена дробью - каждый палач, таким образом, может надеяться, что не повинен в грехе, в необходимость которого он смутно верит. Необходимость для чего? Для сохранения мира, для спасения отечества - уж люди всегда найдут слова, чтобы оправдать свой поступок. Поступок, ужасный для всех, кто причастен к нему: для командира и для солдат, для того, кого расстреливают, предварительно напялив ему на голову мешок, - конечно, ужасней всего для него, ужасно и непостижимо для всякого, кто этого не пережил, и тем паче для того, кто пережил это. И значит, все же не пережил. Потому что никому не дано пережить собственную смерть...
1 17 мая - национальный праздник Норвегии, День Конституции.
Он ударил по шару ногой - хоть и надо признать: риск, что шар окажется миной, был совсем невелик. И тем не менее риск был... Он видел когда-то, как обезвреживали мину, она в точности походила на этот вот шарик; возможно, мины нарочно изготовляли похожими на буйки, правда, у мины еще должен быть отросток, или рог, но тогда он этого рога не видел, хотя видел шарик вблизи, ведь он же сам, а не кто другой после недолгого колебания вызвал по телефону саперов, заранее конфузясь: вдруг штука окажется безобидной... Но безобидной-то она и не была. Уж как его благодарили тогда, как хвалили за догадливость и решимость: столько развелось теперь равнодушных людей, которым наплевать на все, что творится вокруг, такие разве что подумают (а может, даже не подумают): "Какое мне дело, главное - держаться в стороне, не вмешиваться ни во что". Один неосмотрительный удар по мине в тот раз - и конец. А теперь что же? Смех, да и только. Это же просто буек от рыболовной сети, люди охотно вылавливают их для украшения рыбацких кафе, чтобы создать "колорит".
В таких кафе подают филе мороженой рыбы с гарниром из шампиньонов и всякой всячины, и блюдо это называется "весь Париж", клиент ест мороженую рыбу, любуясь сетями, развешанными повсюду, шарами из стекла или темного металла, и ему мнятся волны и крики чаек. Тут уж не надо бояться, как бы вдруг не случилось взрыва и не взлетел на воздух "весь Париж" вместе с официантами, столиками, посудой, клиентами и прочим. Такого не бывает... Но ведь могло бы и быть, могло случиться, пусть в воображении хотя бы одного человека; однажды ему уже довелось наблюдать беднягу штурмана, чей корабль не раз подрывался на минах, - измученного доходягу вдруг захлестнули видения войны; он закричал, упал на пол, на губах - пена, к нему кинулись со всех сторон официанты, вырядившиеся рыбаками, и, стараясь, насколько можно, не привлекать ничьего внимания, вывели его вон, а клиенты с нарочитым спокойствием, будто ничего и не произошло, продолжали трапезу, может, только чуть усерднее опорожняли рюмки, от души желая друг другу здоровья.