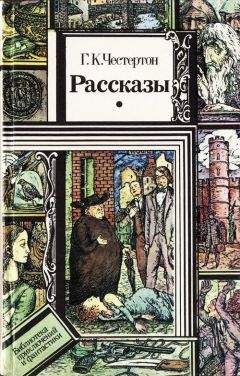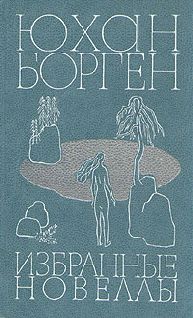Растерянно сидит он за большим письменным столом, перед ним - листок бумаги с неразборчивыми каракулями. То есть они тогда казались неразборчивыми (как давно это было!), когда он тщетно пытался их разгадать. И лишь на тропинке среди холмов, покрытых вереском, он вдруг увидел это письмо - именно потому, что в тот миг уже не видел его.
Он сидит у стола, зная: там, на холмах, среди вереска, ему открылась истина. Перед ним - письмо-заклинание, вопль, обращенный в пространство, стон ребенка, окруженного бездонным пространством смерти (может, все же остался на свете кто-то живой, может, не умер дядя): прошу тебя, дядя, милый, откликнись, напиши мне, что ты жив, что в мире, в том, другом, твоем настоящем мире, еще остались живые люди, о которых не говорят, что они умерли, не умалчивают "из жалости к ребенку". Всех этих слов не найдешь на маленьком листке бумаги, но именно таков смысл письма. Это отчаянный вопль о помощи, призыв, воплощенный в каракулях, которыми мальчик в смятении испещрил листок, вырванный из тетрадки. Где он мог это сделать? Может, на каком-нибудь чердаке, где скрывался вместе с другими, вроде того чердака на Принсенграхте в городе Амстердаме, где много дней и ночей ютилась со своей семьей Анна Франк. Может, маленький Ив провел последние свои дни в точно такой же мансарде, где спрятали его добрые люди - может, какая-нибудь дальняя еврейская родня, - и он жил там, а кругом были крысы и вши, кругом была смерть, беспрестанная угроза смерти и неотвратимость ее; может, зловещее слово "mort" ("смерть") олицетворяло для Ива единственно возможный исход, единственный выход из этой жизни, столь короткой жизни ребенка; может, в его сознании уже стерлась грань, отделявшая жизнь от смерти. Смерть стала для него единственной непреложностью. Но в этой непреложности мрака был один, пусть ничтожный, просвет, узкая щель в застлавших небо грозовых тучах, - тучах, насыщенных, начиненных угрозой взрыва, начиненных ею подобно той "мине", что недавно лежала, омываемая прибоем, у кромки моря, подобно тому круглому шару, который он ударил ногой, чтобы... да, конечно же, чтобы узнать, взорвется он или нет. Может, то был единственный, тонкий, как волосок, проблеск на черном небе, в обступившем мальчика черном, начиненном угрозой пространстве, в тишине чердака, которую вдруг разорвал вой пуль, пуль из пулемета, установленного где-то на крыше, может даже на крыше той самой мансарды, где прятался мальчик Ив, где сидел, склонившись над листком из тетрадки, водя по нему огрызком цветного карандаша, последнего цветного карандаша из великолепного большого набора, который он привез с собой сюда из Стокгольма, что есть силы прижимал к сердцу на всем пути стремительного бегства сюда, на родину, в объятия смерти. Да, так оно могло быть - да так оно и было наверняка, у него нет сомнений в этом теперь, когда он сам сидит у стола, склонившись над этим листком бумаги, который мальчик послал ему тридцать лет назад. Он чувствует, как обступают его мысли мальчика - может, Ив думал примерно то же самое, что и далекая, старшая его сестра в смерти по имени Анна Франк, когда, склонившись над листками своей тетрадки, прислушивалась к бою часов на башне Вестерторен: "Для меня немыслимо строить все на мыслях о смерти, несчастье и хаосе. Вижу, что мир постепенно все больше и больше превращается в пустыню, слышу все ближе раскаты грозы, которая может убить и нас... и все-таки, когда я смотрю на небо, я думаю, что и этой жестокости должен прийти конец, и снова мир и покой воцарятся на земле". 1
1 Дневник Анны Франк. Перевод Р. Райт-Ковалевой.
В письме Ива, написанном огрызком зеленого карандаша, не содержалось столь четко выраженной мысли, да и не было у мальчика такой спасительной веры в ту пору, тридцать лет назад, когда он торопливо набрасывал свое письмо к "дяде". Проблеск света, надежды в черном грозовом небе виделся мальчику в смутном воспоминании об ином, светлом небе Севера, населенного "дядями", которые, может быть - может быть! - еще живы. А жив ли мальчик Ив? Жив ли сорокалетний мужчина, бывший некогда этим мальчиком, жив ли гражданин Ив, который мог бы снисходительно улыбнуться в 1968 году при виде бунта студентов - да только вряд ли бы он улыбнулся. И уж вовсе не снисходительно. Да жив ли мальчик, и если жив, остался ли он таким же, как прежде? Нет, никто не может остаться таким, как прежде, каким был когда-то, в какой бы то ни было миг "одной и той же" жизни. Потому что жизнь "не одна и та же".
Вот он получил листок с письмом Ива сегодня утром, в "тот же" день, что и сейчас. Да только сейчас уже не тот же день, не то же пространство и время, не тот же и человек, который утром получил по почте письмо и ничего в нем сперва не понял. И не понимал до той самой минуты, пока, стоя у кромки моря, не ударил ногой по "мине".
Отчаянный вопль о помощи, скрытый в листке пожелтелой бумаги, в блеклых зеленоватых каракулях, вдруг стал собственным его немым воплем - это он сам тщетно взывает к миру, от которого не дождешься ответа.
Но тсс!.. тише. Сюда идут. В прихожей голоса, звонкие голоса тех, кто вернулся домой. Где же письмо? А, вот оно. Сложенное пополам, оно лежит в его загорелой руке, живой, как и прежде, той самой руке, которой касался Ив, у которой искал защиты. Рука мужчины всю жизнь одна и та же, и твое тело всю жизнь одно и то же, хоть и меняется, оскудевает плоть. И твое "я" сокрыто в этом теле, и никому не дано читать в своей душе.
Но он впитал душой надежду в письме Ива - луч света, посланный тридцать лет назад с парижской мансарды, луч знания, отраженный Сириусом или другой звездой и устремленный в бездонный мрак, где в грохочущей тьме тихо клубятся отзвуки судеб.
- Ах вот ты где! Ну как ты тут коротал время в одиночестве ("В одиночестве!")?
- Спасибо, хорошо! А ты как провела время?