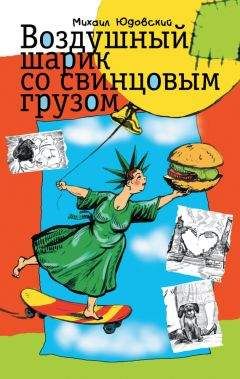– Шоб я здох! – заверил ее Ярик.
Бабушка глянула на меня.
– Амэрыканэць? – спросила она.
Я чуть было не ответил: «Шо?» – но, вовремя взяв себя в руки, улыбнулся по новой и произнес:
– I beg your pardon? [58]
– Кажу – амэрыканэць?
– Oh, American! Yes [59] .
Я и в самом деле выглядел стопроцентным американцем: на мне были самопальные джинсы «Wrangler», польские кроссовки и небесного цвета эстонская рубашка с темно-синим узором.
– Амэрыканэць, – покачав головой, повторила бабушка. – Маешь сурпрыз… И що вин тут робыть?
– Та ничого, – отмахнулся Ярик. – Приехал в Киев, ходит, глазеет, а я его сопровождаю. Устал уже как собака, все ноги исходил, а он, сволочь тупоголовая, все никак не насмотрится.
– Shut up, you fucking asshole [60] , – с обаятельнейшей улыбкой изрек я.
– Говорит, как ему нравится наш город, – перевел Ярик.
– Город у нас гарный, – гордо сказала бабушка. – Дуже гарный. Сама я, правда, у Броварах живу, щоранку на роботу йиду. – Она выразительно глянула на меня.
– Pardon? – Я снова улыбнулся, чувствуя себя идиотом.
– Кажу, у Броварах живу. – Бабушка повысила голос. – Чув? Бро-ва-ры!
– Зачем вы на него кричите? – удивился Ярик. – Он ведь иностранец, а не глухой.
– Иностранэць, – вздохнула бабушка. – Амэрыканэць… От внук мий у армийи зараз служить, пыше, що захыщае Батькивщыну от ворогив. От кого ж вин йийи захищае, якщо воны вже тут?
– Та ладно, – примирительно заметил Ярик. – Какой он ворог? Обычный себе американец.
– Ось, лыста вид нього чытаю, – не слушая Ярика, продолжала бабушка. – Пыше, що згадуе нашу хату, и садочок, и яблуню у садочку, и яки на ний яблучка рослы – гарнэньки, румъяни, смачни. Вышлы мэни, пыше, бабулю, оти яблучка з нашойи яблунькы. Покуштую яблучка и хату нашу згадаю, и садочок биля хаты, и яблуню у садочку… И сальця домашнього вышлы. А як чэрэз яблучка сальце у посылку нэ влизэ, то ты, пышэ, бабулю, повыкыдуй звидты оти яблука и просто сала вышлы, бо дуже йисты хочэться…
– Вы извините, – сказал Ярик, – а музей нам можно посмотреть?
– Музэй? – Бабушка с недоумением уставилась на него. – Музэй можна.
Она хлебнула из кружки остывший чай и, кряхтя, приподнялась из-за стола.
– Ну пийшлы, – сказала она.
Бабушка водила нас по комнаткам музея, сопровождая экскурсию простыми и бесхитростными замечаниями:
– Отут вин йив… Отут спав… Отут щось соби пысав… Багато пысав. Дуже був працьовыта людына… А нагори в нього майстэрня була.
– Master-room upstairs [61] , – талантливо перевел Ярик.
– Master-room yourself, – учтиво огрызнулся я. – It's studio. Can I have a look? [62]
– Он хочет мастерскую посмотреть, – сказал Ярик.
– Yes, очэн хочэт. – Я снова продемонстрировал голливудский оскал, который мог бы послужить наглядным пособием для лекций о вреде курения.
– Вообщэ-то, мы туды просто людэй нэ водымо, – с сомнением произнесла бабушка. – Тилькы экскурсии… Ну гаразд. Для амэрыканьця…
Мы поднялись наверх. Мастерская была небольшой, но светлой комнатой, на залитых солнцем стенах висели офорты, в углу у окна расположился мольберт, а к соседней стене притулилась витрина с живописными принадлежностями, среди которых внимание мое привлекли кисточки – отличного качества, с аккуратно, волосок к волоску, подогнанной щетиной. Дело в том, что помимо уроков английского я занимался тем, что писал картины, а достать в Киеве хорошие кисти на ту пору было делом немыслимым.
– Brushes! [63] – воскликнул я.
– Що? – не поняла бабушка.
Ярик уставился на меня с недоумением. Видимо, это слово выходило за пределы его познаний в английском.
– Brushes! – повторил я, тыча в витрину пальцем.
Ярик безмолвствовал.
– Кис-точ-ки! – с усилием коверкая свою речь, проговорил я.
– Так, – кивнула головой бабушка. – Кысточки. Пэнзлыкы.
– Can I take them? Можно я их… взят? – Я больше не надеялся на Ярика.
– Що значыть взять? – не поняла старушка.
– I'm a painter too [64] . Я тоже… – Я проделал рукою несколько взмахов, долженствующих символизировать труд живописца.
– Дирижер, – перевел Ярик.
– Idiot [65] , – сказал я. – I'm… Я ест… художный.
– Он художник, – исправился Ярик.
– И що?
– Ему кисти нужны, а купить негде.
– Нет гдэ, – сокрушенно подтвердил я. – Я их взят… Чут-чут рисоват. Потом вернут…
– Вин що, дурный? – Бабушка уставилась на меня, потом на Ярика. – Поясны оцьому амэрыканському опудалу, що це экспонат.
– Я их помит… Чисти вернут, – продолжал клянчить я.
– Ой, матинко моя, – бабушка схватилась за голову. – И навищо я вас сюды пустыла… Скажи йому, що цэ музэй, що ничого тут браты нэ можна… Що у ных, в Амэрыци, музэйив нэма? Це Шевченка кисти! – рявкнула она мне в лицо. – Розумиеш, бэзтолочь? Шевченка!
– He's dead, – добродушно констатировал я. – Он ест… умэр. He doesn't need them any more… Они ему болше не нужно… Я помыт и вэрнут…
– Я його зараз прыбью, – сказала бабушка. – Скажи йому, що ниякых кистей вин нэ получэ.
– No brushes, – лаконично перевел Ярик.
– No? – расстроился я.
– Ноу, – подтвердила бабушка. – Ой лышенько, що я такэ кажу… Всэ, з мэнэ досыть. Спускаемось.
Мы покинули мастерскую и спустились в фойе.
– Уси нэрвы мэни потрэпав, падлюка, – тяжело дыша, проговорила бабушка. – Щоб я ще одного амэрыканця до музэю пустыла… Трэба будэ внуку напысаты, щоб вин там у армийи нэ про сало думав, а батькивщыну як слид вид ворогив захыщав…
– Sorry, – сказал я.
– Он сожалеет, – объяснил Ярик.
– Сожалеет… Хиба так можна знущатыся з людэй…
– А давайте он вам что-нибудь в книгу отзывов напишет.
– Хто? Оцей? Йому балакаты мало, вин щэ пысаты хочэ? Що вин там напыше?
– Щось гарнэ. Он хорошо напишет. Приятно же, что даже американцы интересуются Шевченко.
– Гаразд, хай пыше. Тилькы щоб бэз матюков. З нього станэ. Холера така…
Она протянула мне книгу отзывов. Я подумал и написал: «The Eleventh Commandment: thou shalt not borrow from the dead. September 29, 1987. Moses» [66] .
* * *
После истории в музее Ярик несколько раз призывал меня открыть американский охотничий сезон в центре города, но у меня не было настроения. Кроме того, я помирился с Дашей – видимо, только для того, чтобы через пару недель снова с ней поссориться. Подобные перепады стали для нас чем-то хроническим, вроде запоев. Как ни странно, первой на мировую шла всегда Даша. При всем своем эгоизме, она с чуткостью барометра угадывала мое внутреннее состояние и делала шаг навстречу, но делала его так, словно снисходительно прощала меня. А когда я из ощетиневшегося дикобраза превращался в ручного мопса, вновь становилась собой – властной, холодной и неприступной.
Ярика Даша переносила с трудом – непутевый, легкомысленный и совершенно беззлобный, он почему-то доводил ее до бешенства.
– Не понимаю, как ты можешь общаться с этим человеком, – говорила она.
– С ним легко, – отвечал я.
– И все?
– А разве мало?
– По-моему, мало.
– Хорошо. Он смешной, нелепый, безответственный, ленивый, без особых моральных принципов. Этого достаточно?
– Тебе нравятся такие люди?
– Естественно.
– Это как раз противоестественно.
– Для кого как.
– Подобные личности ничего в этой жизни не добьются.
– Зато никого не добьют.
Даша устало вздыхала.
– Я знаю, почему он тебе нравится.
– Почему же?
– Потому что ты и сам такой. Беспринципный аморальный тип, напрочь лишенный целеустремленности.
– Надеюсь, что так. Любимое занятие принципиальных моралистов – целеустремленно шагать по трупам.
– А твое любимое занятие какое?
– Отпускать на волю воздушные шарики. Им так хочется улететь, а какая-то сволочь держит их за нитку или привязывает к чему-нибудь тяжелому. Одна сила тянет вверх, другая вниз, а в результате остается лишь нелепо и бездарно покачиваться из стороны в сторону.
За этими ссорами, институтскими занятиями, частными уроками и прочими мелочами как-то быстро и незаметно прошла осень. Роскошная желтизна сменилась удручающей серостью, деревья напоминали почерневшие скелеты, мрачным войском выстроившиеся вдоль улиц. В середине декабря насыпало немного снега, но продержался он не более суток, малодушно стаяв и превратившись в омерзительную слякоть. В один из таких слякотных дней мне снова позвонил Ярик.
– Есть две новости, – сообщил он. – И обе хорошие. С какой начать?
Я подумал и ответил:
– Начни с хорошей.
– Так обе хорошие!
– С обеих и начни.
– Попытаюсь. У отца на работе давали путевки. На январь. В Прикарпатье. В Яремчу. Ну это городок такой на Гуцульщине…
– И что?
– Он взял две. Одна – твоя.
– А вторая?
– Путевка?
– Хорошая новость.
– Аа… Здравый смысл победил во мне благородство.
– Это, конечно, радует. И в чем заключается победа?
– Понимаешь, сначала я хотел предложить вторую путевку твоей Даше. А потом подумал: кто же едет в Тулу со своим самоваром?
– В какую Тулу?
– Я образно. Ехать в Крым или в Карпаты со своей барышней – все равно что прийти в ресторан с докторской колбасой. Короче, благородство побоку, едем вдвоем, ты и я. А уж на месте разгуляемся. Представь, тут слякотный Киев и печальные старушки под зонтами, а там горы, снега и девушки в ярких спортивных куртках. Короче, сдадим сессию – и вперед, в Прикарпатье, к веселым гуцулам. Только у меня одно условие.