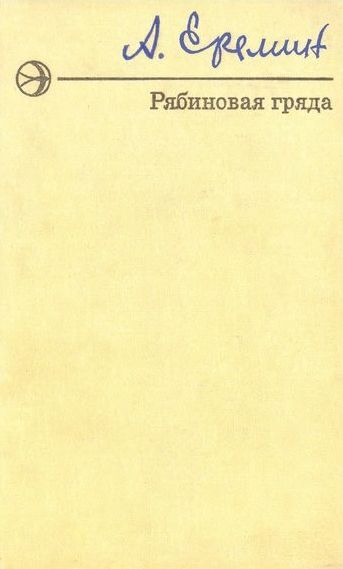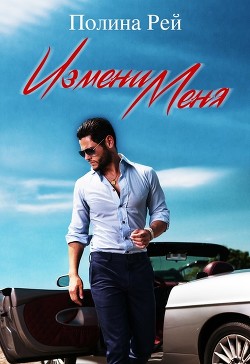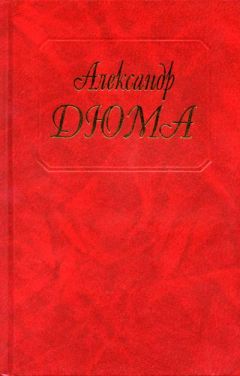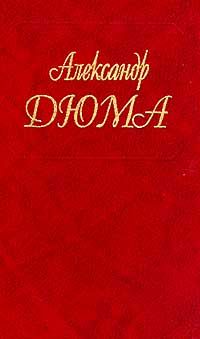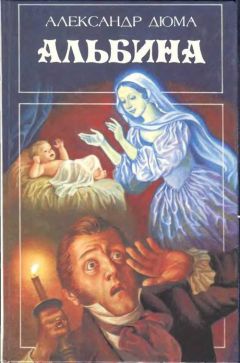class="p1">Сергей Леонтьевич объяснял одним: в это время у женщин бывают самые неожиданные причуды и внезапные изломы настроения.
Никак не могла Фая привыкнуть и к шуточкам подруг у себя в лаборатории. Кто-нибудь обязательно съязвит мимоходом:
— Супруга-то, Фаечка, папашей зовешь?
Или:
— Поделись, Фаечка, опытом, как ты его присмолила?
Фая отшучивалась, делала вид, что их болтовня ни-чуточки ее не задевает. Там выдерживала, а дома опять брякнется на диван — и в слезы. Какое им до нее дело!
Больше всего расстроил Яша Дюбин. Встретила его в городском парке, возвращаясь с работы. Семенит, раскидывая носки врозь, шляпой помахивает:
— Очаровательная Фаина Петровна! Замираю от восторга. Сколько лет!
Встал перед ней, звучно сдвинул каблуки и дернулся головой так, что прямые рыжие космы на мгновение завесили его лицо. Бросив под ноги недокуренную сигарету, протянул Фае узкую, бледную, в темных веснушках руку.
— Сияет красотой, расцвела…
— Раздалась, — договорила Фая. — Чин супруги обязывает.
— Понимаю, хоть и не все законы природы вызывают у меня восторг. А моя-то почтенная тетушка! Анекдот! За степень доктора заплатить мужем. По-моему, недорого. Восхищаюсь, Фаечка, с каким изяществом ты его прибаюкала.
— Почему — прибаюкала, — с обидой возразила Фая. — Это вульгарно. Я всегда знала тебя милым и любезным, хоть несколько… Впрочем, не важно. Тебе не понять чувства, которое может… Да что там! Ты вряд ли его когда и испытывал.
— Какое? Любовь? — Яша Дюбин угрюмо надвинул шляпу на глаза. — Если бы не цепи… Помнишь, когда-то в новогодний вечер заговорили о цепях брака. Кто-то сказал: их надо в металлолом.
— Ты и сказал.
— Разве? Не помню. Если бы не эти ржавые цепи, я на коленях бы вымолил твою любовь. Еще тогда, в твою студенческую юность. Но звон цепей… Теперь ты с положением. Надеюсь, — он сдвинул шляпу на затылок и заговорил опять шутливым тоном, — наступят лучшие времена и ты не прогонишь бедного, неисправимо влюбленного от своего порога.
— Зачем же. Мы будем рады.
— Мы… Ох, это мы! На страже твой Пигмалион. Правда, не первой молодости. Подержанный.
— Циник ты. — Фая возмущенно отвернулась и пошла в обратную сторону. Он догнал ее.
— Не сердись. Это же просто каламбур. Подержанный— в смысле тетушка подержала. Теперь ты. Да и каламбур-то не мой, кто-то из наших дам пустил. Одна все долбила: чужой кафтан не одежа, чужой муж не надежа.
— Мне-то к чему пересказывать? Пусть долбят. Какие-то глупые сравнения. Подержанный кафтан…
— Чужой кафтан, — поправил Яша. Подержанный — это к мужу относится.
— К тебе еще больше, — отрезала Фая. — Ну что вы все! Кого ни встречу, — ах, за какого старого вышла! Ах неровня!
— И вот общественное мненье! — Яша проговорил это весело, с ораторским пафосом. — Уверен, что оно образумит тебя и ты почувствуешь… ну как бы это яснее… Внутреннюю свободу и формальность своих цепей. До лучших времен, Фаечка! — Попятившись, он вскинул руку, сделал несколько шажков боком и замельтешил серыми в клетку брюками.
Вздорный разговор, выбросить бы его из головы, забыть и весело идти, как шла до этого, чувствуя приятную грузность молодого здорового тела, вдыхая свежую прохладу процеженного густой зеленью воздуха. Фая и старалась забыть, но он словно провел в памяти саднящие царапины. Подползало ядовитое слово «подержанный». И вот общественное мненье! Откуда это? Да, из «Онегина». «Шепот, хохотня глупцов».
9
Из соседнего купе вышла женщина в очках, с крашеными, слегка поднятыми завивкой, бронзово отливавшими волосами и стала глядеть в окно. Сергей Леонтьевич, стоявший у другого окна, рассеянно оглянулся на нее и продолжал листать журнал «Семья и школа» — больше в киоске на вокзале купить было нечего. Пробегая заголовки, призывавшие родителей воспитывать в детях разные добродетели, он подумал, что надо читать, а на следующий год и выписать. Двое сорванцов растут, одному через год за парту.
Мимо проходили по коридору, задевали, скользила, извиваясь, проводница с подносом, заставленным стаканами с чаем.
Женщина с крашенными под бронзу волосами щемяще знакомым жестом поправила очки. Полина Семеновна. Пока он смятенно раздумывал, уйти ли незаметно в свое купе или будь что будет, она оглянулась на него и, должно быть, тоже не знала, сделать ли вид, что не заметила его, или кивнуть, мол, здравствуй. Кивнула.
— В Москву? Не с докторской ли?
Делая вид, что никак не засунет журнал в грудной карман, Сергей Леонтьевич отвернулся и пробормотал о незадаче у него с докторской.
— Надо бы на раскопки… Новые данные нужны… Так и не закруглился. Еще подсекло — один защитил на эту тему.
— Это могло подсечь, — сочувственно кивнула Полина Семеновна. — Как твоя кафедра?
— Теперь не моя. Другой ведает. По конкурсу. Да это пустяки, я и в рядовых без обиды. Пользы от меня не меньше. А ты? Тоже в Москву?
— В министерство. — Полина Семеновна опять поправила очки, и было заметно, как у нее дрожат пальцы. — Дела.
— Какая-нибудь неувязка с промышленностью?
— Другое. Директором Института химии ставят.
— Поздравляю. Конечно, ответственность… А как вообще?
— Живу. Заржавела будто. Мать в прошлом году схоронила… Так что… в дом престарелых пора.
— Полно. До старости далеко, — поспешил он уверить ее. — Одеваешься со вкусом, волосы, гляжу, покрасила. Право, твои годы тебе и не дашь.
— Не влюбись, — пошутила она, не улыбаясь. — А что одеваюсь, волосы, — нельзя же в министерство седой растрепой. Работа подтягивает. Да что там! Работой только и держусь. Мыслящим агрегатом стала. Перемалываю тонны информации, нашей и зарубежной. Проекты, расчеты, докладные в министерство, в Академию наук… Да что все обо мне, — спохватилась она. — Как ты? Отец семейства?
— Двое. Мальчишки. Девочку ждем.
— Счастлив?
— Что — мальчишки? Конечно. А так… Счастлив, несчастлив… О жизни, как о погоде за год, одним словом не скажешь.
— Не скажешь, — повторила Полина Семеновна. — Бывают такие испытания… Знаю, они и тебя не обошли. Неровнюшку, как говорит тетя Ксеня. Ведь это не осталось вашей семейной тайной, что бросала тебя Фаина. И ради кого! Другой бы на твоем месте… А ты простил. Я так и знала, что простишь.
Совестясь взглянуть ей в лицо, он тихо ответил, что быть добрее, мягче — наверно, самое главное между людьми.
— Конечно, можешь сказать: а сам? Разве не был жесток?
— Ко мне? — Полина Семеновна вопросительно подняла брови и качнула головой. — Это не жестокость. То, что случилось, не судьба, не чья-то злая воля. Просто этого было не миновать. Ты казнишь себя. А я? Наедине с собой и мне приходится плохо, только… в жизни нет черновиков, сразу все набело. Ничего не воротишь. — Глядя на летящее назад темное остроколье елей, на прогалы пустых осенних полей, она чуть слышно попросила