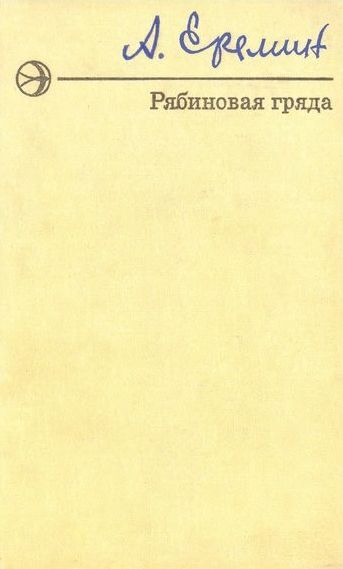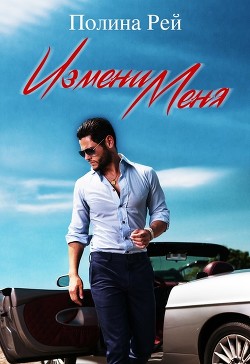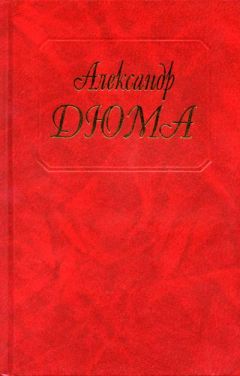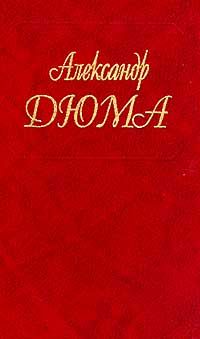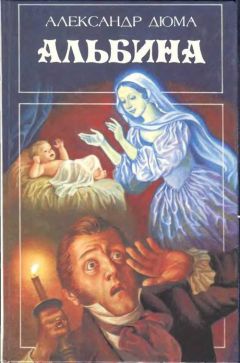легкомысленно ли поступила. Ксения Фроловна сообщила ему самые краткие, почти что анкетные данные о Сергее Леонтьевиче, от моральных рассуждений по поводу их брачного союза воздержалась, дело это, мол, полюбовное и только их касаемое.
Не навались на Петра Андреевича столько дел по школе, часу бы не медля поехал. Комиссии, ревизии, разные чепе… Пришлось отложить. Сначала на неделю, потом еще на две, а там уж до летних каникул.
И вот Фая встречает его на вокзале, сияющая, везет в такси, небрежным жестом отводит руку шофера со сдачей.
— Полтора рубля? Это вам на сигареты.
Дома, повиснув на шее отца, шепотом признается, что счастлива, ждет ребенка. Показывает кабинет мужа, свою комнату, гардероб с платьями, каких у нее отродясь не бывало.
Приходит Сергей Леонтьевич, извиняется, что не мог встретить:
— Лето. Заочники. Готовлю археологическую экспедицию, нынче без меня поедут. Очень, очень рад познакомиться.
Пока Фая хозяйничает на кухне и собирает на стол, тесть и зять ведут разговор о погоде, о недостатках заочного обучения, о новом американском президенте, понемногу наводят мосты друг к другу.
После обеда Сергей Леонтьевич опять извиняется: у него, к сожалению, ученый совет и часика на три вынужден оставить дорогого гостя наедине с дочкой.
Когда он ушел, Фая обняла сзади отца, продолжавшего сидеть за столом.
— Понравился?
— Да. Серьезный. Конечно, в его годы…
— А я не замечаю его годы. Он так заботлив, так предупредителен, что… будто молодеет у меня на глазах.
— Молодеть, положим, это иллюзия, но… Сергей Леонтьевич держится молодцом, я бы его даже преподавателем физкультуры взял. Конечно, рядом с тобой…
— Опять ты, — недовольно перебила Фая. — В его годы… Рядом с тобой… А мне который десяток, забыл?
— Помню. Ты у меня — звезда, — похвалил он, поглаживая ее руки на своей груди. — Тебе никто столько не даст. Да, вот что я хотел спросить… Не сердись. Что другая несчастна, совесть не мучает?
— Не сержусь. Мучает, — вздохнула Фая и разжала руки. — Так жаль бедную Полину Семеновну. Училась у нее, сдавала экзамены… Кто тут виноват больше, не знаю. Оба они мучились. Сергею хотелось… ну как это тебе?.. семейного тепла, что ли. О детях думал. Полина Семеновна всю, всю себя — науке. Ее тоже не осудишь, верно? Настоящий она ученый. Академиком будет, вот увидишь. Так что — оба не виноваты. А жили — все дальше врозь. Тетя Ксеня думает, я виновата, я смутила. Ей-ей, не смущала. Жалеть — немножко жалела. И теперь жалею. Милый он, всю молодость каким-то был бесприютным. Если бы хоть Зоя Демидовна, ее мать, с ними жила! Нет, за свой домишко уцепилась. И ее не повинишь: привыкла к своему углу. Как порассудишь, — заключила Фая, похлопывая сзади отца по плечам, — никто не виноват.
— А человек несчастен, — добавил Петр Андреевич. Помолчав, спросил, давно ли видела Ксению Фроловну.
— Недавно. Съезди, навести, рада будет.
Навестил. Ксения Фроловна не знала, где усадить гостя, чем попотчевать. Был он для нее живой памятью о муже, с годами даже стал казаться похожим на него.
— Поставить бы тебя рядком с моим, под одну бы мерку подошли, — говорила она, улыбаясь и смигивая слезы. — Седой стал, сугорбишься. Думала, таких орлов и старость не берет.
— Берет, Фроловна, — усмехнулся Петр Андреевич. — Всех берет.
Оглядел комнату. Ничто больше о его дочери не напоминало. На комоде, прежде заставленном ее духами, разноцветными коробочками, сейчас возвышались какие-то картонные трубы.
— Награды мои, — пояснила Ксения Фроловна, перехватив его недоумевающий взгляд. — Почетные грамоты. Гляжу, пылятся в шкафу. Дай-ка, мол, на память выставлю. Комод-то как корабель поплыл. А наполучала, когда на ткацкой верховодила. Бывало, шумлю: давай, бабоньки, давай. Фронту надо, народу надо… У меня и медальки есть. Да что я все о себе. У тебя, наверно, свое нейдет с ума.
— Нейдет, — Петр Андреевич облокотился на угол стола. — Так и этак раскидываешь, ладно ли вышло у Фаины. Завязалось-то хоть у них давно?
— Уж этого, — Ксения Фроловна в недоумении расставила руки, — знать не знаю. Уезжали мы, я к дочери, Полина Семеновна в Москву за большим чином в науке. Может, и давно друг к дружке приглядывались, а уж тут сам-то вовсе голову потерял. А твоя подобрала. С умыслом ли, нет ли, а разожгла девица-огневица стылую головню. Гадать, когда да как — теперь уж и ни к чему.
— Ни к чему, — согласился Петр Андреевич. — Супруги-то, — он кивнул в сторону квартиры Тужилиных, — мирно жили?
— Мирно — не знаю, а тихо. Думалось, так и будут голова к голове брести до самого… От какой болезни ученые-то нынче мрут? Инфаркта, что ли. Судьба по-другому рассудила. А уж к лучшему ли… — Ксения Фроловна опять развела руки. — Сам-то хороший человек, все скажут. Одно — неровнюшка Фаине.
— И я про то же. Заглянешь вперед…
— А ты не заглядывай и не пророчь, ошибиться недолго. Ладно живут?
— Вроде ладно. Рада, что дите будет.
— Он — и говорить нечего. Светится. Дите крепче загсовской бумажки связывает. Появится, больше на него будут глядеть, чем друг на дружку. И что неровнюшка он, в глаза ей бить не будет. Люди бы только поменьше злословили да бередили. Жаловалась, какую, говорит, из подруг ни встретишь, обязательно заведет: «Фаечка, поздравляю, хорошо, что пенсионера подцепила. Спокойнее. Бегать не будет. Разве уж сама убежишь». Кольнет походя и довольна, а Фаине яд в душу. Сам-то-й, смотри, ни словечка.
— Пожалуй, — обронил Петр Андреевич и мысленно укорил себя: тоже хорош! — «конечно, рядом с тобой…».
И все-таки когда уезжал и на перроне стояли они вдвоем последние минуты, как-то неуклюже заметил, что Сергею Леонтьевичу надо бы серьезнее подумывать о здоровье.
— Думал, проводите меня оба. И все — занят, занят… Такая работа на износ в его годы…
— Опять ты, — огорченно перебила Фая. — Знаю, что хочешь сказать: в его годы не надо было смущать молоденькую, помнить картину «Неравный брак». Неужели Сергей похож на ту рухлядь в орденах?
— Зачем ты такие выводы… Я вовсе не имел в виду… Извини.
Дома она молча легла на диван, уткнулась лицом в подушку и горько расплакалась. Думая, что эти слезы от разлуки с отцом, Сергей Леонтьевич присел рядом, погладил ее плечо.
— Мы, Фаечка, возьмем да сами к нему…
И в первый раз она раздраженно крикнула, чтобы не лез со своими нежностями.
— Фаечка… Сюсюкаешь, как с внучкой.
И тут же, словно ужаленная своей жестокостью, повернулась к нему и сквозь слезы увидела, с какой он ошеломленностью и обидой глядит на нее. Вскочила, приникла к его груди.
— Сергей, прости меня. Сережа, милый… Не знаю, что со мной.