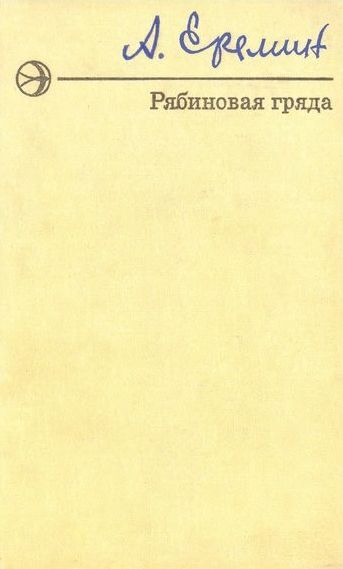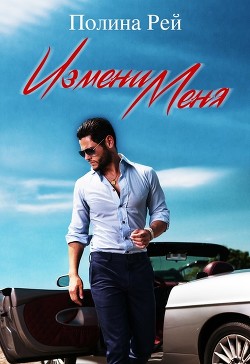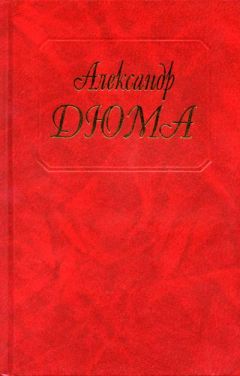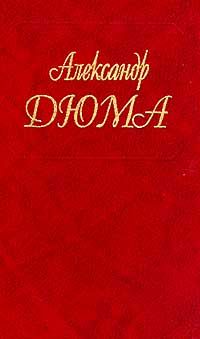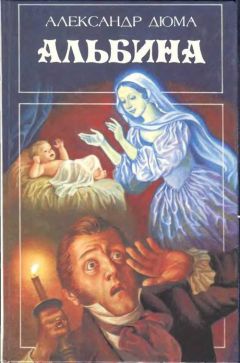не вспоминать о ней плохо. — Я ведь так любила тебя!
1
Я в девках была, цыганка мне нагадала, что замуж выйду за писаря, будет он в любови ко мне постоянным и проживу я с ним долгую жизнь. Все сходится. Давненько мы живем с Митей, уж и после серебряной свадьбы десять лет прошло, только он у меня не казенные бумаги пишет, а статьи и книги. Как о нем покойный мой тятенька говаривал, на писателей критику наводит. Слово писарь цыганка по малограмотности своей не в том смысле употребила.
Митя о Кантемире пишет, о Решетникове, о Тендрякове, когда о ком. Всех статей, какие я у него на машинке перестукала, и не упомнить. Много из них и сама узнала. Образование у меня, сказать совестно, незаконченное низшее.
Неровня мы с Митей, он ученый, лекции студентам читает, а для меня решительно все науки — лес темный. С цифрами да запятыми и то не в ладах. Многие диву даются, как это уживаемся мы, ученый с неучем. Уживаемся, и друг друга хорошо понимаем. Разве уж когда Митя особенно мудреное что скажет. Как-то говорит мне: «У тебя, Таня, гиподинамический образ жизни». Думаю, обидное что-нибудь, наобум отвечаю, смотри, мол, сам не загиподинамичничай. Объяснил, ничего, оказалось, обидного и нет.
Недаром говорится, с кем поведешься… Как-то незаметно и я приохотилась писать. Сначала — какая сегодня погода, сколько показывает градусник за окошком, потом что в голову придет. То вспомнишь давнее что-нибудь, то попросту, без писательских затей, раздумья свои изложишь. В толстых общих тетрадках пишу, пятую исписываю. Митя к моему писанью равнодушен. У него свое: реализм, романтизм, генезис образа, жанровые компоненты, сюжетные ингредиенты, новации, филиации… У меня свое — наши житейские будни и заботы. Чаще всего раздумываешь, отчего это семьи у нас так легко распадаются. Поживут молодые год-два, слышишь: развелись. Детьми не обзаводятся. Нет детей, нет и семейной скрепы. Налегке разойдутся, а там — новые связи, и кто знает, прочнее ли прежней. Как-то смотрю, идут молодые из загса, он смущенно потупился, теля телей, она развеселая, глядит смело, победительно. Сразу видно: это ей не впервой.
Живем мы в большом доме, двенадцать подъездов, и с кем из молодых ни познакомишься, — он да она. Детишек, мол, надо. Усмехаются: без них спокойнее.
В пример и нас не поставишь. Три комнаты, а живем двое, Митя и я. Свекровь Дарья Михайловна с деревней расстаться не хочет; всю жизнь там прожила, в Родниках, беспомощной стала, ссугорбилась. Говорим ей, что в город надо, покойнее здесь, все готово, — противится, молит не трогать ее.
— Сама привыкла все делать, и гряды вскопать, и воды принести. К чему мне это — покойнее! Покойником-то лучше уж я здесь буду.
Сын Вася отдельно живет, в другом конце города, своей семьей. Тоже — какая семья! Одна у них единственная Люська. Сноха Аглая — мы по-свойски Аглашей ее зовем — больше детей не хочет. Чтобы шумнее было, на семью похоже, держат восторженную бородатую суку Нельму и кота Яшку, субъекта мрачного, с изгрызанными ушами и мяукающего хриплым сорванным басом. Придешь к ним под вечер, — отдыхают после работы. Аглая на кровати с Нельмой в обнимку, Вася с Яшкой на диване. Люська в школе, у нее весь год вторая смена.
Послушать Аглашу, так она с одной-то Люськой измучилась: то заболеет, то двойки у нее замельтешат в дневнике, то приметят, с каким-нибудь долгогривым хороводится — в пятнадцать-то лет! Недавно так мне и отпечатала:
— Несчастье мое эта Люська.
— Да чем же, — говорю, — несчастье?
— Не видите чем! — Аглаша до сих пор обращается ко мне на вы. — Не будь ее, давно бы я кандидатом наук стала. Две подруги у меня дипломы уж получили. Оклад по три сотни.
— Бездетные?
— Еще бы с детьми! Какая с этой обузой наука.
Сноха у меня химик, лаборантка на заводе, где синтетику — нейлон, поролон — делают. Исследует она какие-то новые соединения, производит опыты, говорит, что для здоровья это вам не Сочи, но руководитель лаборатории Яков Данилович обещает посодействовать ей стать кандидатом наук.
Редкий разговор с Аглашей обойдется без этих ее жалоб, что Люська мешает ей пробиться в науку. Слушаю, а у самой неотступно — как это мы, восьмеро, у мамы росли и никогда-то она словечком не обмолвилась, что обуза мы для нее, что не будь нас, таким ли бы она человеком стала. Не до себя ей было. Честолюбивые мысли и в голову ей не приходили. Билась как птица в силках: надо было всех накормить, обшить. Отца, смолоду занятого сплавом леса, по месяцу, по два не видели. Мать одна всей нашей оравой правила, всех на ноги ставила. Купить ли что на базаре — обувку, одежку — сначала детям; каравай ли, пирог ли из печи — первые куски детям. Сама — ладно, коли и не достанется. Изо дня в день жертва, хоть это слово ей и на ум не вспадало.
Да и бывает ли материнское счастье без жертвы ради детей?
Только что была Люська, после нее, по обыкновению, остался такой беспорядок, что надо целый час прибирать: раскиданы мои кофточки, платки, туфли, бусы… Все это она примеряла и кривлялась перед зеркалом. Модница. То ей бабушка платье укороти, чтобы подколенные ямочки было видно, то под колдунью причеши, то купи ей красные брюки из крепдешина. Шепотком секретничать начнет, какой интересный мальчишка из соседнего подъезда в кино мороженым ее угощал.
— Мы и домой вместе шли, он под ручку хотел, а я не далась. Ты думаешь, я маленькая, а я мамин бюстгальтер мерила, скоро в самый раз будет.
Журю ее: в пятнадцать-то лет мальчишки у тебя на уме, бюстгальтер, подколенные ямочки… Об отметках бы за четверть позаботилась.
Плечами поведет, пощурится в зеркало.
— Нашли пугало: отметки. Двоек не наставят, учителей за них тоже ругают. Задачки спишу.
— Хорошо это?
— Будто я первая! И вообще, бабушка, хватит мне всяких цеу.
— Что за «цеу»?
— Ценные указания. В школе их вот как наслушалась. — Пальцем черкнет себя по горлу, мол, во, больше некуда.
Раздумаешься, как много семей, похожих на нашу: дед и бабушка, отец и мать, а там еще родители снохи — и одно дитя. Придет неминуемый срок, и вместо нас шестерых останется единственная Люська. Выйдет замуж, и кончится род Камышиных, даже фамилия исчезнет, некому будет ее носить. Перебираю знакомых: и Селины — выморочный род; и Корневы, и Чернавины…
От кого этот мор пошел, и не поймешь. То ли снохам нашим не до детей