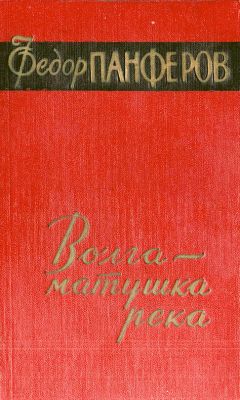«Аннушка!» — мысленно звал он…
1
На вопрос Акима Морева, как колхозники ведут себя после расширенного пленума обкома, Иннокентий Жук, прощаясь, сказал:
— Всеми перстами в землю вцепились — не отдерешь.
Вот почему Акиму Мореву казалось, что колхозники не прислушаются к призыву обкома и облисполкома выделить рабочие руки на достройку канала. Эта мысль так тревожила его, что он поднимался чуть свет, выходил из палатки и напряженно всматривался во все стороны.
В эти часы степи щедро открывали перед взором сияющие молодыми лучами дали и удивляли причудливыми миражами. Миражи походили то на плывущие древние ладьи, то на густокронные леса, то казалось, что мчатся грузовые машины, переполненные колхозниками. Все это быстро менялось, и степи вдруг покрывались густым маревом — разливным морем.
Красиво, но пусто.
«Гнули, гнули горб на строительстве канала, ждали воду, а вместо воды — тина в канале. Это самое оскорбительное. За это мы и расплачиваемся», — так думал Аким Морев, не высказывая своей тревоги даже Николаю Кораблеву, занятому проектировкой и расстановкой несуществующей рабочей силы. — Проекты и расстановка есть, а людей… хоть шаром покати… «Стремительно устремились», — вспомнил он кичливые слова Опарина.
Предоблисполкома на дню раза три звонил, вдохновенно докладывая:
— Удивительно, Аким Петрович. Народ поднялся на завершение строительства Большого канала… громадой.
— Поднялся и сел, — так, что ли, вас понимать? У нас-то тут даже сторожей нет, — грубо перебив, сказал Аким Морев.
— Будут. Ведь это не так просто — поднять пятнадцать тысяч человек. А поднялось около сорока. Теперь мы отсеиваем.
— Смотрите, как бы не запеть песенку Любченко. Тот горланил: «Отсеиваемся, отсеиваемся». В других районах хлеб уже убирают, а он все еще горланит: «Отсеиваемся».
— Ну, мы таких нот не имеем, — обидчиво ответил Опарин и снова взвился: — Хотите, пятнадцать тысяч человек пришлем? Уже с узелками и на колесах. В этом и трудность — отсеять надо, не то оголим колхозы.
А сегодня Аким Морев снова вышел из палатки и долго всматривался во все стороны, ожидая: вот-вот появятся грузовые машины. Но степи только звенели, да ползли по ним причудливые миражи.
Секретарь обкома впервые остро разозлился на Опарина: жег солому в полях, подогревал Бирюкова, не видя надвигающейся беды, а теперь «опять взвился». Ведь Иннокентий Жук уверяет, что колхозники «всеми перстами вцепились в землю». Неужели этого не видит Опарин?
«И неужели около нас такие работнички? Миражи. Сплошные миражи», — подумал он, тоскливо вглядываясь в степи.
Тревога Акима Морева не оправдалась: он упустил из виду, что беда, вызванная прорывом на канале, в первую очередь обрушилась именно на народ: столько труда положили колхозники в надежде, что в степь придет волжская вода, источник жизни, а вместо этого — обвалившиеся берега, разжиженный песок и тина. Вяльцев на собрании колхозников так и сказал:
— Руки, ноги ломали, спины гнули, не жалели труда, а расчет пришел — тину получай. Для областного руководства позор, ясно-понятно, а для нас, в разрезе дня, — зубы на полку клади.
И ныне, узнав о том, что завершение строительства канала возглавили такие люди, как Николай Кораблев, академик Бахарев и Аким Морев, колхозники действительно поднялись дружно и в большем, чем нужно, числе, особенно молодежь, — вот почему степи вскоре вновь загудели людскими голосами, заплакали на все лады гармошки и девичьи песни вплелись в их плач.
Аким Морев подметил самое отрадное: в глазах людей уже не было тоски и того вопроса: «Зачем это? К чему это?», — что видел секретарь обкома в глазах колхозников, идущих оврагом у Дона. В глазах людей светилось другое: «Ныне нормальное пошло. А что дальше?»
2
Уже больше месяца колхозники укладывают в траншеи каменные плиты, засыпают боковины землей, трамбуют, укрепляют колышками и плетешками берега бывшего русла Волги.
Сегодня суббота, завтра выходной.
Все работы приостановлены, и в шесть часов вечера колхозники, прорабы, бригадиры, инженеры отправились на озеро Чапура.
Солнце еще с высоты калило землю, а озеро уже бултыхалось нагими телами. Женщины налево, мужчины направо… и оба эти крыла полумесяцами охватили берег озера. При жгучих лучах солнца мокрые тела горели, как начищенная медь, а брызги взлетали так, словно в воду падали снаряды. На женской половине — выкрики, визг, смех, на мужской — затишье, зато здесь смельчаки уплывают километра на два, на середину озера, туда, на просторы, и гордятся этим, как гордится собою и Марьям. Она не в купальном костюме. Нет. Зачем? Разве для того выращивают цветок, чтобы его чем-то прикрывать? И Марьям не прикрывает себя. Вон она стоит, словно красивая, аккуратная березка, около которой развалились женские тела. Они разные. Есть уже постаревшие, с наплывами у нижней части живота. Есть и молодые, сильные, с широкими бедрами и с сосками, точно спелые вишни. В каждой есть что-то хорошее, а Марьям вся хороша. Груди у нее еще девичьи, упругие, ниже под нежной, но загорелой кожей еле заметно проступают тонкие ребра и еще ниже живот. Нет. Он не втянут, но и не отвисает. Он какой-то окатанный, готовый к тому, чтобы носить и беречь в себе плод. И Марьям, ладошкой стряхнув песок с бедра, направляет взор на середину озера, к смельчакам, а в это время на нее смотрят глаза тех, кто окружает ее, — тысячи глаз. И как не посмотреть на такое красивое человеческое счастье? Затем с песка поднимаются другие девушки, как бы говоря: «А чем мы хуже? Разве мы не способны плодить? Подойди, возлюбленный».
За девушками поднимаются женщины, и тогда берег оглашается смехом, выкриками, визгом, а вода в озере бурлит и брызжет. На мужской — затишье, но и там красавцы выходят наперед, а удальцы уже на середине озера, и каждый из них в это время думает: «На меня смотрят и зовут к себе те, кто слева. И я приду. Непременно приду».
Иван Евдокимович и Аким Морев тоже искупались. Но купались они в стороне, на противоположном берегу озера. Неудобно входить им, нагим, в толпу нагих строителей канала. Отсюда, с противоположного берега, они видели тысячи купающихся и некоторое время смотрели на человеческое оголенное счастливое буйство.
— Купаются два пола, два источника, заполняющие земной шар живым и бесценным, — произнес Аким Морев.
— И зачем им война, этот страшный зверь, который вмиг может растерзать все человеческие тела? — досказал академик то, что не успел высказать секретарь обкома.
А когда они, вдовцы, высказав свои мысли, шли к штаб-квартире, то уже слышали, как с берега озера, из становищ и степей неслись разудалые песни, переборы баянов и людской веселящий гул.
— Грустно? — сказал академик, будто спрашивая Акима Морева.
— Да. И даже тоскливо, — ответил тот и, болезненно смеясь, добавил: — Говорят, сие снимает сон. В постель давайте, товарищ академик.
Вскоре, прислушавшись и решив, что Аким Морев заснул, Иван Евдокимович осторожно поднялся с кровати, оделся и вышел из палатки.
«Опять на укрепительные работы отправился. Там, на берегу, и уснет. Ясно, подавляет тоску. Мне и то тяжело в выходные», — подумал Аким Морев, затем сам вышел из палатки и направился в глубь темных степей.
Отойдя километра на два от электрических фонарей, освещающих трассу канала, он присел на берегу Глухого лимана и вдруг услышал стон — сдержанный, приглушенный, но порою доходящий до какого-то утробного рева.
«Мужской плач — самый страшный! Кто же это?» — встревоженно подумал Аким Морев и осторожно стал приближаться к тому месту, откуда несся стон… И попятился, расслышав слова:
— Сам-то еще только комочек, а ее загубил.
— Иван Евдокимович, — чуть не вскрикнул Аким Морев. И как только академик поднялся и, не разбирая дороги, пошел прямо через лиман на свет электрических фонарей, секретарь обкома заспешил стороной, рассчитывая первым попасть в палатку, лечь в постель и сделать вид, что спит. Но как ни торопился, однако столкнулся с академиком у входа и деланно-весело воскликнул:
— Что, Иван Евдокимович, колышки смотрели?
Тот, как все эти дни, заговорил шумливо:
— Да. Золотой мужик — наш соловей-разбойник Дмитрий Чуркин: за что ни возьмется, сделает прочно и красиво. А вы? Тину рассматривали? Никто, конечно, не ждал, что все дело испортит эта дрянь. Однако растерзаем дракона. Слышите, как народ гудит в своем веселье? Не будь у него уверенности, он бы не веселился.
— Народ никогда не дипломатничает, — согласился Аким Морев, первым входя в палатку и думая: «И все-таки для академика здесь спасение. Конечно, сейчас пока и советовать ему нельзя, чтобы поискал нового друга жизни: Анна полонила его».