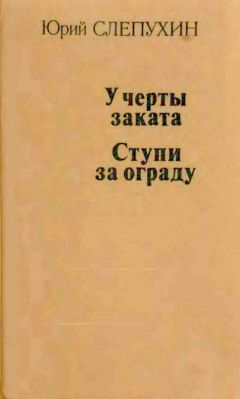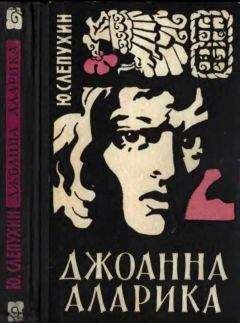Секундой позже Беатрис сообразила, что Тереса никогда так не стучит — у нее стук быстрый и торопливый, а этот какой-то нерешительный. Похолодев от мгновенного непонятного испуга, она быстро обернулась и закусила губы.
— Ян? — шепнула она, отступив на шаг. — Вы что…
Придерживая у горла воротник халата, она сделала еще шаг назад, наткнулась на край кровати и села, не сводя глаз с гостя. Тот продолжал стоять у двери, словно хотел и не мог что-то выговорить.
— Беатриче, — сказал он наконец едва слышно. — Беатриче, простите меня, но…
И опять замолчал. Молчала и Беатрис. Мертвая тишина стояла в маленькой комнате, наполненной сухим зноем и запахом моря и солнца.
Потом — оба они вздрогнули — эта тишина взорвалась быстрым стуком в дверь. Выждав минуту, Тереса крикнула из коридора:
— Сеньорита Дора! Я иду, давайте бумажку!
Беатрис закрыла глаза.
— Не нужно, Тереса, — сказала она отчетливо. — Мне ничего не нужно, идите.
Было очень жарко в этой комнате, и она чувствовала, что от зноя ее кровь как бы сгустилась и пульсирует по телу с трудом, мучительно. Кровь так стучала в ушах, что ничего не было слышно, но Беатрис услышала все же, как щелкнул в двери ключ. И это было последним. После этого она не слышала ничего и ничего не видела, сидя на краю постели с накрепко зажмуренными глазами, судорожно вцепившись в ворот халатика пальцами, дрожащими от ужаса и нетерпения.
1
По обыкновению она вышла первой. Привычный страх, унизительный, как пощечина, опалил ее, словно эти семь шагов вниз по ступенькам, до поворота на тротуар, она проходила мимо раскаленной печи. Только свернуть — и никто, увидев ее, не догадается, что минуту назад она вышла из этих дверей…
Впрочем, она шла совершенно спокойно своей быстрой, легкой, чуть колеблющейся походкой, четко постукивая каблучками и бесстрастно глядя перед собой сквозь большие солнцезащитные поляроиды. Она всегда смеялась над этой дурацкой модой носить на глазах зеркала и никогда их не носила — именно поэтому стала носить теперь. Прическа тоже была изменена по мере возможности. Но все равно — у нее было слишком много знакомых, которые проводили сезон в Мар-дель-Плата, и каждый из них мог очутиться на этой улице, в этот самый утренний час, в эту минуту…
Знакомое стрекотание мотороллера догнало ее за углом, на середине следующего квартала. Не оглянувшись, Беатрис подошла к обочине тротуара и, когда рядом затормозила белая «ламбретта», примостилась боком на заднее седло, левой рукой взявшись за пояс Яна.
— Держишься? — спросил тот, не оборачиваясь.
— Да, поехали.
Мотороллер тронулся, ускоряя ход, вильнул влево, вправо, юркнул между машинами и помчался вместе с ними, фыркая и подпрыгивая. «До чего же нелепый вид транспорта», — подумала Беатрис, правой рукой нашаривая какую-нибудь дополнительную точку опоры позади себя.
— Где мы будем завтракать сегодня? — Ян спросил это громко, может быть, просто чтобы перекричать шум ветра и уличного движения, а может быть, и оттого, что его уже раздражало ее маниакальное нежелание появляться дважды в одном и том же месте. Беатрис, во всяком случае, восприняла его тон именно как раздраженный.
«Скоро начнутся сцены», — подумала она, а вслух сказала:
— Где хочешь. — Она выглянула из-за его плеча и прищурилась. — Что это там впереди, кажется «Мартона»? Вот и прекрасно.
Ян снова вырулил к тротуару и затормозил. Беатрис соскочила с седла и торопливо, не глядя по сторонам, вошла в дверь молочной. Внутри было чисто и прохладно — кафель и белый мрамор — и вкусно пахло свежим сливочным маслом; все это почему-то напомнило ей детство. Но тут же, следом, в эту белизну и прохладу вошел Ян Гейм.
— Возьми мне молока и рогаликов, что ли, — сказала она, снимая перчатки. — Можно с джемом. Я займу тот столик, в углу.
Позавтракали они молча. Впрочем, теперь это было уже не то молчание, которое так хорошо получалось у них месяц назад там, в Буэнос-Айресе.
— Ты не хочешь съездить на Пунта Моготес? — спросил наконец Ян. — Говорят, там пляж совсем пустой.
— Можно, — не сразу отозвалась Беатрис. — Только не сейчас, я должна побывать у себя в отеле. Воображаю, что думает обо мне хозяйка…
Ян посмотрел на нее удивленно:
— Тебя всерьез беспокоит, что думает о тебе какая-то трактирщица? Будь выше этого, Беатриче.
— О, я уже выше, — усмехнулась Беатрис, бросив на него почти ненавидящий взгляд. — Ты меня научил, мой патриций. Это правда, что римские дамы купались в присутствии рабов?
— Кажется, — лениво подтвердил Ян. — Я об этом где-то читал. У Светония, что ли.
— Вот видишь. Единственное, что мне теперь остается, это пройтись нагишом по Рамбле, с великолепным патрицианским презрением к тому, что обо мне подумают. Кстати, я ведь до сих пор толком не знаю, что думаешь обо мне ты, mi fiel amador[95]. Если не как о человеке — на это я не претендую, — то хотя бы как о любовнице. А? — Она весело смотрела на Яна, ожидая ответа.
Тот промолчал.
— Говорите же, Дон Хуан Тенорио[96], — продолжала Беатрис. — У вас ведь есть опыт, судя по всему… И есть с кем сравнивать. Так что же?
Ян, сидевший с опущенной головой, поднял на нее глаза, и Беатрис не поняла, чего в них больше — тоски или обыкновенной скуки.
— Хочешь ссориться, Беатриче?
— О нет, что ты! — Она рассмеялась, немного истерически. — Ссориться нам уже поздно, Хуансито. Я просто хочу знать себе цену, поэтому и спрашиваю!
— Не понимаю одного, Беатриче, — сказал Ян. — Я ведь ни к чему тебя не принуждал, ты знаешь. И если ты воспринимаешь все это так… так трагически, то как же ты тогда могла вообще…
Он не договорил и снова опустил голову. Беатрис смотрела на него и чувствовала, как улетучивается ее истеричная бравада, уступая место отвращению, и как откуда-то со дна души поднимается темный нерассуждающий ужас перед ее новым «я» — тот самый ужас, что погнал ее к Яну поздним вечером того дня, когда все это случилось, когда она была одинока и опозорена и когда у нее не было в мире ни одного близкого человека, кроме него, «близкого» уже хотя бы физически…
— Как я могла стать твоей любовницей? — переспросила она уже совсем другим тоном, просто устало. — Ты это хотел спросить? Не знаю, Хуан. Или, пожалуй, знаю… но предпочитаю не говорить, — в этом ответе нет ничего приятного ни для тебя, ни для меня самой. Будем считать, что просто так уж случилось… Как случалось миллионы раз у других…
Они вышли на улицу. Ян взял прислоненный к дереву мотороллер, свел его на мостовую и, запустив мотор, сел в седло, упираясь ногою в тротуар. Машинально покручивая рукоятку газа, он смотрел прямо перед собой пустым, неподвижным взглядом, словно не в силах оторвать глаз от какой-то видимой ему одному точки. Беатрис только сейчас заметила у него эту странную, безнадежную складку губ. Или раньше ее не было?
Словно опомнившись или очнувшись, он посмотрел на Беатрис:
— Подвезти тебя?
— Нет, я пойду пешком. Ты куда сейчас?
— На почту, потом заправиться. Когда за тобой заехать? Минут через сорок?
— Хорошо, — безразлично сказала Беатрис. — Только не подъезжай к отелю, я выйду на угол…
«Mon plaisirs d’amour[97], — устало подумала она, провожая взглядом белую «ламбретту». — Будь проклят навеки выдумавший эту ложь, этот подлый обман!»
«А в общем, это даже и не обман», — сказала она себе через минуту, медленно идя по тихой, прохладной от зеленых утренних теней улочке. Кто ее обманывал? Кто обещал ей что-нибудь другое? Даже прямой виновник — Ян — и тот, в сущности, ни в чем не виноват — она со злости назвала его Хуаном Тенорио, а ведь он ее не соблазнял, он просто взял то, что она ему предложила… Как взял бы на его месте любой.
Ей некого винить, кроме себя самой. А если посмотреть глубже, то даже и не себя — вот что самое страшное. Страшнее всего, когда приходится винить безликие «обстоятельства», судьбу, жизнь. Жизнь вообще, ее беспощадные к человеку законы…
В какой-то степени Беатрис всегда это предчувствовала. Может быть, повлияло монастырское воспитание, но с тех пор, как она еще подростком открыла для себя существование пола, все связанное с ним было для нее предметом скорее страха, чем интереса. Разумеется, было и любопытство, было и притяжение, подобное тому, что испытывает человек на краю пропасти, но страх был сильнее. Беатрис чувствовала, догадывалась: здесь действительно пропасть, а не овражек, куда можно безнаказанно спрыгнуть из любопытства.
Она избегала всяких разговоров на эту тему с подругами, и не только потому, что ее шокировала обычная в таких случаях фривольность. Беатрис считала, что это не тема для болтовни, — слишком много было здесь страшного и таинственного. Здесь лежала тайна — глубочайшая тайна бытия, охраняемая грозным табу, подобно тем древним мистериям, где неосторожное прикосновение к святыне оказывалось гибельным для неофита.