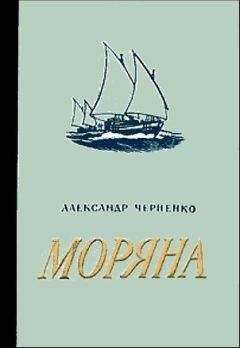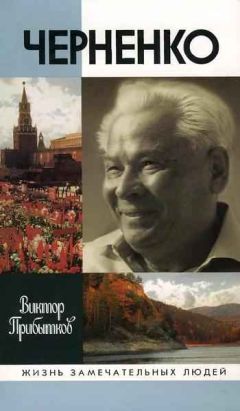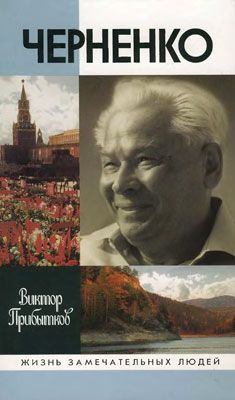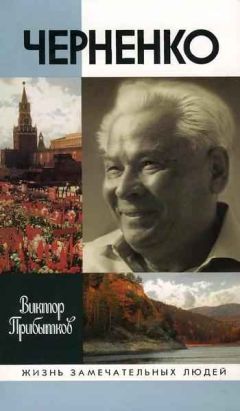Толпа опять зашумела.
К Андрею Палычу подбежал с полумешком муки на плечах Григорий Буркин.
Бросив в сани мешок, он поднялся к Андрею Палычу и стал громко кричать, повторяя одно слово:
— Поехали! Поехали!..
Кто-то опять ударил в набат Островка; гулкий звон его заглушил набат соседнего поселка, сбил гвалт ловцов и рыбачек. В набат били все чаще и чаще, он гудел тревожно, зловеще.
К костру поспешно подъезжали одна за другой груженные мешками с мукой подводы.
А набат продолжал гудеть...
Девять подвод с двадцатью семью ловцами, вооруженными берданками и централками, выкатили из Островка в эту памятную морозную ночь.
Зарево не перестававшего бушевать костра ярко освещало им дорогу...
По этой дороге — по сжатому льдами Сазаньему протоку — мчался теперь Андрей Палыч в район.
«Артель, колхоз создадим! — думал он. — Непременно создадим! Партия верный путь нам указывает... Верный!..»
Он приподнялся и крепко стегнул коня по спине. Нащупав за пазухой газеты, обрадованно зашептал:
— Прямо в районный партийный комитет пойду!..
Кругом сверкали алые снега; лед был завален волнистыми радужными сугробами, камыш осыпан светящимся розовым пухом, а небо в багряном закатном пожаре будто тоже затянуто снежными пунцовыми покровами.
И Андрей Палыч примечал: чем быстрее бежала лошадь, тем лучистей сияли снега...
Маячник Егорыч беспрерывно суетился: то подбрасывал в печку дрова, то подбегал к небольшому, кованному разноцветной жестью сундучку, то спешил к столику, на котором стояло несколько бутылок.
— А ты еще хватани! — И он подливал Дмитрию водки. — Согреться надо, непременно согреться!
Дмитрий, лежа под тулупом Егорыча, приподнимался на локте и, морщась, выпивал новую стопку.
Становилось все жарче и жарче; под тулупом было, нестерпимо душно, и ловец тоскливо глядел на печку, где на веревке сушилась его одежда.
«Где теперь Васька? Что с ним стало? — спрашивал себя Дмитрий. — Егорыч говорил, что на заре, когда он тушил маяк, мимо пронеслась чья-то лошадь с порожними санями.. Куда же делся Васька? Неужели угнало его в относ?.»
И ловец снова тоскливо взглянул на свою одежду; ему хотелось встать, одеться и двинуться на помощь товарищу, но когда пытался приподняться, кружило в голове, звенело в ушах, и он опять беспомощно падал на подушку.
— Сейчас начнем варить ловецкий чай, — и Егорыч, маленький, толстенький старичок, снова убегал к печке; волосы на голове у него были короткие, ершиком, и почти всегда насмешливо прищурен один глаз. Егорыч напоминал собою шустрого, лукавого ерша.
— Давай я тебя еще раз натру! — Маячник брал бутылки с водкой и уксусом и сбрасывал с Дмитрия тулуп.
— Хватит, Максим Егорыч, хватит. Спасибо!
— Пропотеть ты должен, как следует пропотеть! — настойчиво повторял маячник и, отвернувшись, неприметно для Дмитрия наливал в стопку водки и залпом выпивал ее. — Самое главное — пропотеть! И тогда — капут простуде. Сорок годов я ловил, шесть раз в относе был, — знаю, как выгонять эту хворобу...
Налив в ладонь водки с уксусом, Егорыч начинал растирать крупное мускулистое тело ловца.
— И как же это вы такой штормяк проспали? И лошадь, говоришь, предупреждала? Э-эх, ловцы!.. Сказано же в ловецком евангелии: море и кормит, оно же и топит... Бросать надо было все и скакать ко мне... А шкура твоя вся в ссадинах, будто удочками кто драл.
Дмитрий хрипел, жаловался на одежду, которая, обмерзнув, ободрала его тело.
— Давай спину! — покрикивал Егорыч.
Руки его ловко ходили по ладной спине молодого ловца; спина у Дмитрия добротная — в аршин шириною, около лопаток катались бугристые мускулы.
— Эх, судаки-дураки! — ворчал маячник. — Забыли ловецкую присказку: лошадь на льду копытом бьет — беда идет... Э-эх, ловцы, что за ловцы!
Маячник снова наливал в ладонь водку и уксус.
— Повернись! — и плескал. холодной едкой влагой на грудь Дмитрия.
Он старательно водил руками по, прочной груди ловца, которая была неподатлива и туга, точно засмоленный борт морской посудины.
Старичок то и дело поворачивался к окну и, казалось, пристально следил за песками, что струились тонкими серыми прядями среди стремительно бегущих холстин снега. Он видел, как над Каспием опять потянул ветер, высоко взбрасывая, освободившиеся ото льда воды.
Как и на заре во время шургана, снова дрожит его ветхая примаячная сторожка, и над нею гулко скрипят под напором ветра стропила.
Дмитрий уже полдня лежит в сторожке Егорыча.
Он не ожидал, что так необычно ласково примет его маячник. Раньше Дмитрий слышал от Глуши, что ее отец знает о том, что она сблизилась с Дмитрием, и не один раз грозил выпороть дочь, оттаскать за косы. Да и сам Егорыч как-то предупреждал ловца, чтобы не приставал он к Глуше, не заводил смуты в семье...
И вот, спасаясь от страшного относа, Дмитрий прибежал к маяку и долго не осмеливался войти в эту сторожку. Обмерзший и разбитый, он припадал к окну, прислонялся к двери и наконец, не выдержав, беспомощно опустился на приступок у входа и стал скрести дверь.
Что же не прогнал Егорыч Дмитрия?..
Не помнит он, как маячник втащил его в сторожку и оттер водкой, привел в чувство.
Приметил ловец, что маячник почему-то много и охотно говорит с ним, суетится, ухаживает.
И, ободренный ласковым приемом Егорыча, ловец пытался заговорить с ним о Глуше, но каждый раз, как только произносил он имя его дочери, старичок, будто ничего не слыша, убегал то к печке, то к сундучку.
Вот и сейчас Дмитрий едва слышно сказал:
— Глуша, верно, волнуется...
— Ой, чай кипит! — притворно забеспокоился маячник и заспешил к печке. — Плотней прикройся тулупом-то!
— Глуша-то, верно, соскучилась... — еще раз, нарочито громко сказал Дмитрий и замолчал, намеренно не досказав, по ком соскучилась Глуша.
— Что? А? Как ты говоришь? — лукавил Егорыч, прикладывая к уху сложенную трубочкой ладонь.
— Глуша, говорю...
— Чего это? — хитрил маячник. — Недослышивать я стал, за шестьдесят годов мне уже перекатило.
Помешав в котелке чай, маячник снова заспешил к сундучку; он отпирал его уже несколько раз маленьким светлым ключиком, который висел у него на пояске из хребтины.
— Раздел я тебя до костей, а одеть-то и не во что! — Он приподнимал крышку и начинал быстро перебирать содержимое сундучка.
— Спасибо, Максим Егорыч. Скоро одежа моя высохнет.
— Не знаю, во что мне тебя и одеть... Есть вот у меня смертная рубаха да сподники. И жалко вроде, и грех, пожалуй, — к смерти ведь готовил!
Он поднялся и развернул желтые рубаху и штаны, густо пересыпанные махоркой.
— Спасибо, Максим Егорыч!
— Одеться надо, а то зайдет, может, кто — неудобно эдак!
Дмитрий подумал:
«Чего-то хитрит старикан», — и громко спросил, стараясь выведать тайну маячника:
— А кто может зайти сюда? Островок отсюда верст пятнадцать, а ближе как на тридцать — и никакого другого жилья нет!
Старичок опустил на колени рубаху, нахмурился и обидчиво произнес:
— Ко мне ловцы часто заезжают, и бабы тоже.
Егорыч посмотрел на Дмитрия хитро прищуренным глазом:
— А может, дочка приедет...
— Глуша? — радостно приподнялся Дмитрий. — Глуша, говоришь, Максим Егорыч, приедет?!
— А? Чего ты сказал? — заюлил маячник. — Недослышивать я стал... А? Что?
Он бросил на сундучок белье.
— Эх, чай убежит! — и метнулся к печке.
Вытащив котелок, маячник составил его на пол, затем, опустив веревку, придвинул ее с одеждой ловца ближе к огню.
— Как бы не спалить твои штаны! — и воровато взглянул из-за одежды на ловца.
Дмитрий чему-то улыбался.
— Э-эх, вы, ловцы! — снова заговорил маячник. — Штормовой норд вверх дном море перевернул, а они дрыхли! Известно: раз рыбу ловишь, значит при смерти ходишь! Беречься надо было, глядеть в оба... Э-эх, вы!.. Никудышные вы с Васькой Сазаном ловцы. И справы-то у вас своей нет, на рыбников — на живоглотов работаете.
Дмитрий нетерпеливо завозился на постели. «Брось, Максим Егорыч, рыбу учить плавать», — недовольно подумал он.
— Я бывало всегда имел свою справу. — Егорыч то подносил одежду ловца ближе к огню, то отстранял ее. — Всего один год на рыбников работал, а потом — каюк, довольно! И сорок годов самостоятельным ловцом был. Никак не признавал рыбников. Ну, понятно, улов сдавал живоглотам, потому что казна не занималась приемкой рыбы, а ежели б занималась — ни фунта, ни рыбины не сдал бы хапунам.
Он подходил к окну и подолгу, молчаливо глядел на прибрежье.
Ветер крепчал и, срывая с песков снег, попрежнему бросал его в стекла. Стропила маяка, туго пошатываясь, скрипели над сторожкой все громче и тоскливей...