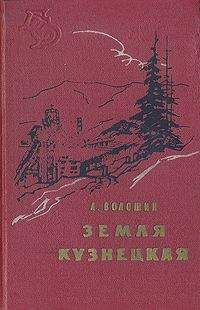— Такой, значит, разговор состоялся о птичках.
— Оставь ты, пожалуйста, этих перелетных птичек, — отмахнулся наконец Рогов. — Дались они тебе…
— Да, но объективно одна из птичек чуть не зазимовала у нас на шахте.
— Журавль?
— Именно.
— Ну что ж… — Рогов встал, согнал под ремнем складки гимнастерки назад и уже на выходе из кабинета закончил: — Мы должны радоваться, что нет в нашей жизни места для таких «чуть». Одернули, поправили — здоровее будем.
…Через полчаса вышли в раскомандировочный зал. Рогова необычайно взволновала многолюдность собрания: в зале не только сесть — стать негде.
«Всем больно, — подумал Рогов, — но зато сила какая!»
И, глядя на десятки, на сотни родных ему по духу людей, на их суровые в этот час лица, угадывая в глазах каждого величавое достоинство и решимость, Рогов вдруг с новой ясностью почувствовал свою вину перед ними в том, что он как будто усомнился в их силах, в их готовности к трудовому подвигу и вздумал с обидной для них осторожностью, исподволь готовить их к полной механизации. Они уже были способны и механизмы освоить и выдать на-гора столько, сколько давали всегда…
«Сила какая!» — еще раз повторил он про себя.
— Начинай, — поторопил парторг, когда они усаживались в президиуме, и тут же еще раз напомнил: — Только не плачься.
Рогов и не думал плакаться. Превозмогая какую-то непонятную тяжесть во всем теле, подошел к трибуне.
— Есть такой суровый, но справедливый закон на войне, — начал он спокойно.
— А вы не про войну, чего зубы заговаривать! — обрывает его кто-то неприязненно. — Проворонили знамя!
— Дохозяйствовали!
— Есть такой закон на войне, — немного медленнее, но так же спокойно повторил Рогов: — Если войсковая часть теряет в бою свое знамя, ее расформировывают. Мы тоже в битве за план потеряли знамя. Но мы не на войне. Не посчитайте, товарищи, что все это для красного словца, но я много думал, прежде чем выступить сегодня перед вами и сказать: хорошо, что есть у нас в Кузбассе шахтеры сильнее нас, есть, значит, на кого опереться, шагая в завтрашний день, есть на кого равняться. Равняться на них должны мы все, а в первую очередь — я, все руководство шахты. Плохо, если шахтеры не уважают руководителей, еще хуже, если руководители не учатся у рабочих. Учиться у рабочих — значит верить в силы коллектива, а силы эти — огромны.
Рогов оглядел собрание и повторил:
— Огромны!
Он услышал, как двинулся народ и затих. Это было похоже, как если бы все разом сказали тихо:
— Да!
— Сегодняшнее соревнование, — продолжал Рогов, — имеет свои особые нормы и законы. Вот послушайте, что нам пишут с шахты имени Ворошилова, которая отвоевала у нас знамя: «Рады, что побороли такого сильного «противника», как вы, товарищи. Но мы слышали, что у вас пока плоховато с комплексной механизацией, — это нас беспокоит. Потому решили мы послать к вам на недельку бригаду из инженеров и стахановцев — пусть покажут, как у нас это дело настраивается. Не обессудьте — чем богаты, тем и рады. Дружнее, товарищи, второй год пятилетки идет! Кузбасс набирает новую скорость, следите за соседями, помогайте им, иначе не одолеем задач!»
Дружнее, товарищи! — Рогов внимательно оглядел притихшее собрание. — Вот оно, новое, бесценное в нашей жизни! И называется это новое — коммунизм!
Совсем тихо, напряженно, торжественно стало в зале. В первом ряду, тесно прижавшись друг к другу, сидят черепановцы. Приподняв круглое румяное лицо, Митенька не мигая смотрит на Рогова и шевелит губами, повторяя про себя слова инженера; Сибирцев, наклонив квадратную, коротко стриженную голову, чертит что-то прутиком на цементном полу.
— Да, много нужно сделать для того, чтобы коллектив «Капитальной» мог решительно вырваться вперед. Кто этого не знает! И в то же время никогда мы не чувствовали себя так уверенно, никогда яснее не представляли себе свою связь с судьбами всего Кузбасса, всей родины, как в этот момент!
То, что Рогову хотелось сказать за полчаса перед этим только Бондарчуку, он сказал неожиданно для себя сейчас всему коллективу. Для этого нашлись и хорошие слова, припомнились, словно сами собой, необходимые факты.
— Значит, знамя будет снова на шахте! Пусть заранее извинят товарищи делегаты из Прокопьевска, пусть сегодня на шахте-победительнице не думают, что коллектив «Капитальной» опустил руки.
Саеног толкает локтем Сибирцева, тот косит выпуклым карим глазом и кивает. «Конечно! — думает он. — Если завтра с шахты уйдут десять лишних вагонов угля, к весне на полях родной Сибирцеву Кулунды заговорит еще один трактор, в землю лягут тяжелые зерна, заколосятся неоглядные нивы, побегут по ним легкими синими тенями ветры. А может быть, уголь, добытый сверх плана Сибирцевым, обернется теплом в квартире ученого, мягким светом в одной из комнат Кремля, где работает, думает о судьбах родины Сталин».
Вместе со всеми Сибирцев ожесточенно аплодирует и почти вызывающе смотрит на маленького седого старичка — делегата с шахты-победительницы.
Слегка побледневший, Рогов садится рядом с Бондарчуком и, словно извиняясь, шепчет:
— Разговорился я…
Лицо у парторга ласковое, в глазах пристальное внимание.
— Есть в тебе огонек… — говорит он. — Быть тебе партработником, Павел!
Недоумевая, Рогов кивает головой.
— Я всегда чувствую себя партработником.
На сцену поднялся со знаменем старик Вощин. Колюче оглядев собрание, он кивнул, очевидно, каким-то своим мыслям и заговорил глуховато, слегка расставив ноги и подавшись вперед.
— Я хотел речь произнести, — сказал он и вздохнул, — а теперь не буду. Меня опередил Павел Гордеевич. Только смотрите! — повысил он голос и снова сердито оглядел собрание. Потом, наклонившись, бережно поцеловал краешек бархатного знамени и рывком сунул крашеное древко в руки маленькому седому прокопчанину: — Возьми, товарищ. Уважаю работящих!
Рогов понимал, что подготовка кандидатской диссертации отнимает у Вали все время, все силы, но от этого нисколько не было легче. Иногда ему казалось, что в ее письмах невольно прорывается смутная тревога, словно она все еще решает: «Ну, хорошо, диссертация. А потом? К тебе на рудник? Что же я там буду делать, если меня неудержимо тянет в просторы Сибири, к новым открытиям? Как же быть?»
А сегодня утром он не сдержался и написал ей: «В твоем отношении ко мне больше рассуждений, чем горячего чувства. Неужели не понимаешь, как ты необходима мне?»
Написал и целый день каялся. Очень уж по-мальчишески вышло. И вообще нехорошо попусту изводить себя. Все в свое время решится. Целый день думал над этим и даже обрадовался, когда позвали на бюро горкома.
Бюро должно было начаться в шесть, но Рогов пришел значительно раньше. В маленький зеленоватый кабинет Воронова люди приносили с собой могучее дыхание рудника — спокойную народную мудрость, шахтерскую сноровку, командирский опыт. Здесь решалось самое трудное, самое жгучее, что выдвигала жизнь на шахтах. Какой бы вопрос ни обсуждало бюро — все равно, сердцем, мыслями каждый из его участников невольно оказывался в стремительном широчайшем потоке самой неотложной работы.
Но в этот раз Рогов трудно входит в жизнь бюро, Бондарчук даже подтолкнул его локтем.
— Ты что, не слышишь? Тебя спрашивают.
Рогов оглянулся на секретаря, тот смотрел на него внимательно, выжидающе, потом повторил вопрос:
— Разговор идет о том, как лучше наладить обмен опытом среди младшего горного надзора, и о соревновании по профессиям.
— О соревновании… — Рогов подумал. — Что могу сказать о соревновании?.. Передали вот знамя прокопчанам.
Ременников, начальник с десятой, рассмеялся.
— Не хвастай, Рогов, этот опыт тебе не зачтется.
Рогов возразил:
— Нет, этот опыт как раз в первую очередь зачтется. Я хочу сказать о том, что в своей работе мы сегодня будем равняться не только на ворошиловцев, победивших нас, — этот рубеж мы почти перешагнули, — в будущем году мы будем решать задачи на два года вперед. Так, по-моему? — он повернулся к Бондарчуку. — А с горным надзором… В первом квартале решили всех горных мастеров пропустить через курсовую сеть. Нельзя больше терпеть, чтобы командир смены не имел права ответственности. Опыт с Очередько красноречивее слов. Довыдвигали человека на свою голову. А теперь судить будем. Вот отправные пункты, Иван Леонидович…
Воронов утвердительно кивнул, потом обратился к представителям четвертой шахты, а через минуту уже с пристрастием допрашивал главного инженера девятой.
Рогов невольно заслушался, залюбовался, как секретарь легко, умело находит в речах выступавших какое-нибудь одно — самое нужное, самое главное слово или одной-двумя репликами очищает стержневую мысль от словесной шелухи. Потом Воронов умолкает и сидит, чуть потупившись, глубоко вдвинув свое угловатое массивное тело в кресло, сидит, как будто бюро идет само собой, без его участия. Люди выступают, спорят, настаивают, и плывет маленький зеленоватый кабинет в ночи по точно заданному курсу. Но вот… что это? Крен? Ага, Ременников что-то слишком уж разошелся. Чудак, ну чего горячится, сказал бы спокойно, что для выполнения квартального плана ему требуется еще сорок забойщиков, обосновал бы это цифрами, фактами.