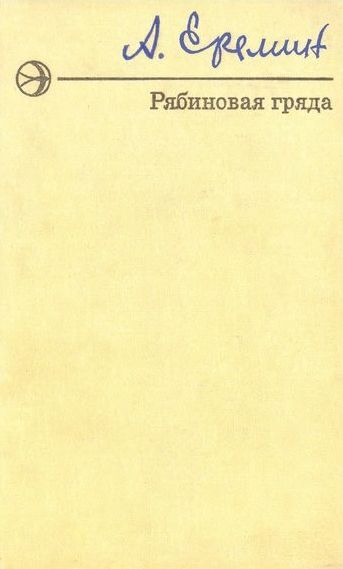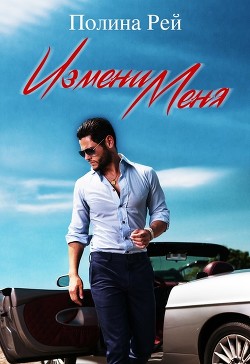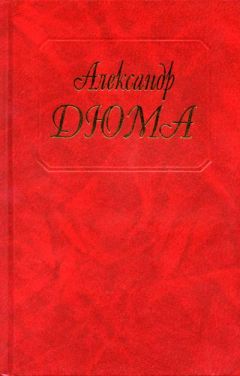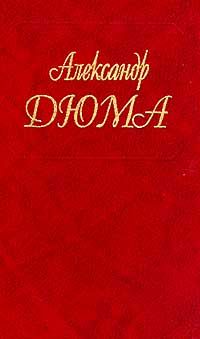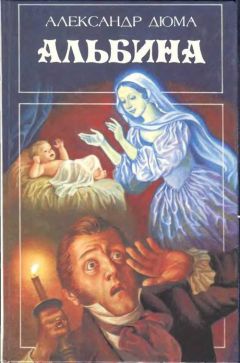как мужики на морозе. Зимой дверь у него постоянно, даже ночью, открыта: в коридоре все-таки теплей. Другие жильцы, особенно технорук — его комната как раз напротив, — ворчат, вскакивают среди ночи, прохваченные холодом, который напустит Дмитрий Макарович, и захлопывают его дверь. Померзнет он час, другой и опять крадучись приотворит. Зима в этом году злая, с дровами жмемся. Истоплю, оттает наш сосед, слышим — смычок канифолит, скрипку настраивает и начинает выпиливать гаммы. Музыке предается он самоучкой, струны под смычком взвизгивают, скрежещут. Паня зажимает ладонями уши, крутит головой и наконец не выдерживает.
— Бездарный уходер, — шипит он и грозит стене кулаком. — Что, если поленом грохнуть?
Я шепотом умоляю не ссориться: учитель все-таки.
— Тогда… — Паня придумывает самую страшную месть. — Не будем топить. Два дня. Три. Чтобы у него пальцы не гнулись.
Морозить беззащитного соседа я тоже не согласна.
— Лучше позовем его чай пить.
Жили мы все — преподаватели и студенты — одинаково скудно, ходили в одну и ту же столовку. Оторвут от продуктовой карточки талон, дадут черпак щей из квашеной капусты, на второе шлепнут на тарелку мятой картошки — ее называли пюре. Чуть-чуть заморишь голод; ребятам так и вовсе этого не хватало.
Праздником было, когда наш сосед привезет из Москвы буханку хлеба, купленную на рынке, и мы втроем усядемся у нас пить чай. Я высыплю на газету пакетик сахару, наш месячный паек, разрежу хлеб на равные аккуратные ломтики — и начинаем пир, шумный, с громкой веселой болтовней. Ржаной, круто замешенный хлеб кажется нам вкуснее всего на свете. О белом мы и не вспоминаем. Вместо чая завариваю сушеную малину, — ее прислала нашему соседу мать из деревни.
Мы стараемся есть не спеша, хлеб все равно исчезает удручающе быстро. Наконец мы чувствуем себя сытыми. Какое это счастье — не чувствовать под ложечкой голодной тоски, нудного непрерывного нытья. Круглое, деревенски простодушное лицо Дмитрия Макаровича блаженно сияет и похоже на солнышко, каким мы рисовали его маленькими. Я забываю, что он мой учитель, он просто наш сосед, и я рада, что ему с нами хорошо.
Как-то во время такого пира Дмитрий Макарович пристыдил нас, что мы с полгода, можно сказать, на московской околице, два часа езды, и до сих пор в Москве не бывали.
— Боитесь заблудиться? А я на что? Завяжи мне глаза— и от Кутафьевой башни до любой заставы доведу. На ночь приткнуться? Будьте покойны, место есть. Свой у меня там деревенский живет, рабочим классом стал. Аксен Петрович. Хозяйка его, тетя Тоня, еще как-то родней нам приходится. Приветливые. И живут неподалеку от вокзала. Видите, все сходится. Конечно, ежели вам провожатый не подходит… — Дмитрий Макарович дернул плечом, тогда, мол, извините.
Я захлопала в ладоши и крикнула, что подходит, очень даже подходит. Паня стал было мямлить — и до станции далеко, и дорога, наверно, мятижная, но я решительно сказала, что непременно поедем. До станции три километра — какая же даль? Мы в Кряжовск отмахиваем семь — и ничего. Откуда и дороге мятижной быть? — аграевских в Москву ездит много.
Два часа в поезде — это же вовсе рядом!
Неделю спустя мы втроем втиснулись в квартирку земляка Дмитрия Макаровича. Хозяева были дома, только что уселись обедать. Встретили нас шумными восклицаниями, будто и в самом деле к ним родня привалила. Аксен Петрович, как человек городской, полированный, стал было помогать мне раздеться. Я от смущения сжалась, что, мол, вы, свои руки целы. Дети — двое ребятишек с чернильными пятнами на пальцах и девочка лет четырех — кинулись к Дмитрию Макаровичу, называя его дядей Митей и наперебой выспрашивая, что долго не ехал. Хозяйка тетя Тоня приставила табуретки к столу и усадила нас.
— Погрейтесь с дороги, гостюшки дорогие. Картошечки с пылу горячей, чайку.
И сам потчует, Аксен Петрович, ближе к нам ставец с тонкими пряничками черного хлеба подвигает.
— Не обессудьте, что скудно. Картошкой да чаем гостей встречаем. Водочкой бы положено, да, признаться, не держу этого зверя: вцепится, не отвяжется, а дело у меня строгое, Митя, — он кивнул на Дмитрия Макаровича, — знает.
— Еще бы не строгое, — отозвался тот и с гордостью пояснил нам — Автобус водит. А что картошка да чай, — разлюбезное дело. Погреемся — и колесить, волгари мои ни разу Москвы не видели.
Спешим на улицу. Оглядываюсь — и сердце замирает: Москва! Наверно, изо всего нашего залесовского роду мы в ней — Паня и я — первые. Некоторые улицы — так себе, середина расчищена, по сторонам снежные валы. Гонят извозчики, покрикивают, чтобы ротозеи побе-регались. Изредка обгоняют их автомобили, похожие на старинные кареты, какие изображаются на иллюстрациях к роману Диккенса, только без лошадей. Дымят, фыркают и трубят так, что даже на тротуаре люди шарахаются. На многих улицах рельсы и бегают вагоны, — такие мы по пути в Аграевку видели в Горьком. Трамваи. Дмитрий Макарович говорит, что ехать нам далеко. Задерживаемся на остановке, притопываем, чтобы ноги не окоченели. Подходит трамвай, дружно напираем и лезем на площадку. Народу как в нерядовской лавке, когда там что-нибудь дают без карточек, воблу или повидлу. Скамейки вдоль окон заняты, — Паня шутит: весь штат заполнен. По обеим сторонам на жердочках болтаются ременные петли, за них цепятся, чтобы не упасть при толчках трамвая или крутых поворотах. Дотягиваюсь и я до одной, висну, все-таки ногам легче. Окна затянуты снизу инеем, как белым каракулем, сверху чистые. Гляжу, то широким бульваром едем, то узенькими переулками петляем, у меня уж, как на карусели в Кряжовске, голова кругом.
Вполголоса, только чтобы мы слышали, Дмитрий Макарович рассказывает, по каким улицам едем, иногда покажет на какой-нибудь дом и даже вздохнет.
— История! При Петре тут школа навигацких и математических наук была.
Или:
— Святыня! Пушкин тут друзьям «Бориса Годунова» читал.
Едем, едем… Да есть ли конец Москве? До одного добрались: у Новодевичьего монастыря вышли. Дмитрий Макарович и тут все знает: новые дома слева — это Усачевка, прямо, за невидимой под снегом Москва-рекой Воробьевы Горы, там Герцен и Огарев давали клятву бороться с крепостным правом.
В низине у реки домишки, сараи, не лучше, чем в Аграевке. Окраина. А на горах и вовсе пусто.
Опять гремит и названивает трамвай, будто покрикивает: «Сторонись, народ, я лечу, никуда не сворочу!» И опять Москве нет конца. Даже названия всех примечательностей не запомнить, какие называет Дмитрий Макарович. Триумфальные ворота, Сухарева башня, памятник Пушкину… В некоторых местах заборы, за ними какие-то ямы роют несусветной глубины. Размышляю вслух, наверно, мол, пруды будут.
— Я в курсе этих ям, — снисходительно замечает Дмитрий Макарович. — Новые здания строятся. Прямо —