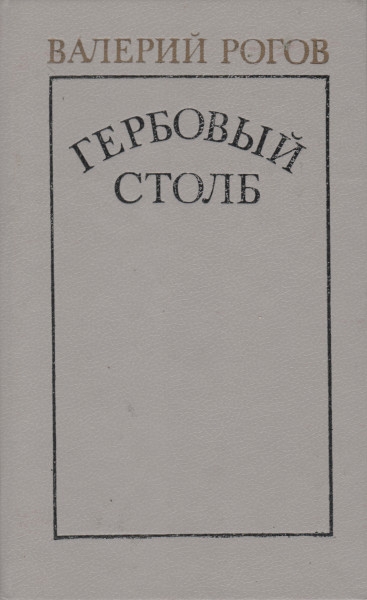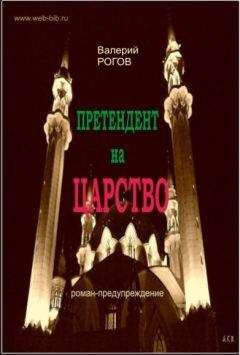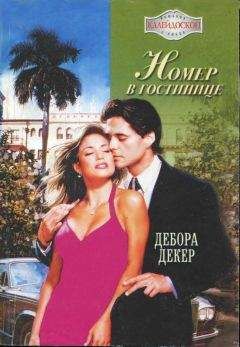к России, ко всему русскому — и к самим себе!
Пожалуй, на этом я остановлюсь — мысль ясна: современная техническая интеллигенция в определенной своей части заражена старой российской болезнью, то есть нелюбовью к Отечеству и преклонением перед Западом. Вот, например, дальний мой родственник Анфилов. Человек обстоятельный, отзывчивый, мягкий, но ведь технарь, как говорится, до мозга костей. Он, конечно, не предаст родину, не уедет на Запад, но к леворадикальным взглядам относится с интересом.
Он искренне не понимает гоголевского призыва к тому, чтобы — любить Россию! Прямо-таки набрасывает кучу пустых вопросов: зачем? как? что это значит? речку, где ловишь рыбу? или рощицу, где собираешь грибы? И в конечном, итоге скатывается к выводу: «Любить можно то, что важно для тебя и где ты можешь преуспеть». Или: «Любить можно то место, где тебе хорошо, интересно и достойно живется». И подобное прочее. Обязательно добавляя: «Я вот десять лет проработал на Севере — из-за денег. Что, мне любить вечную мерзлоту? Я бы лучше отработал за границей — и интереснее, и побогаче. А в Орел вернулся, потому, что дочь подросла — в институт поступать надо. Ну, о чем ты? О какой возвышенности? Обычная жизнь — без полета...»
Он всегда искренен, и с ним спор как-то сам по себе гаснет: ну, в самом деле, о чем я? О какой возвышенности? Нет, духовность и подвижничество среди них, технарей, редко встретишь, как и «любовь к отеческим гробам». Они прагматики и мыслят реалиями собственной выгоды. А ведь они, технари, в городе, в нынешнем промышленном городе — центровые фигуры. Не самые удачливые, не самые пока определяющие, но в перспективе — они, они...
И они для левых радикалов, которые все западники, — тот умственный слой, энергетическая масса; их нужно завоевать! В чем тут причины? Ответ существует. Во что превращены наши инженеры? Те инженеры, которыми так гордилась дореволюционная Россия? Или: можем ли мы сравнить дореволюционного русского инженера с его многочисленными «потомками» в СССР? Нет, не можем. Лишь единицы.
Старая русская инженерия в основном была патриотической. Она получала классическое образование в гимназиях или реальных училищах — со знанием латыни и греческого, а значит, истории цивилизации и общемировой культуры, со знанием одного-двух, а то и трех-четырех современных языков. Она отличалась достоинством, самоуважением; была высокооплачиваемой...
Советский инженер, или конструктор, или исследователь прежде всего материально унижен. Особенно перед теми, кто малообразован, кто «институтов не кончал», но до недавнего времени был «гегемоном». А с этим «гегемоном» инженер-конструктор-исследователь учился в одном классе, жил на одной улице, в тех же условиях, часто в той же полунищете, но все же стремился «выбиться в люди». Выбился — ну, и чего достиг?..
К сожалению, советская техническая интеллигенция достаточно политически и общекультурно не развита, являясь, как правило, узкими специалистами и до последнего времени узкомыслящими людьми. Вот именно! — «до последнего времени». Сейчас эта многомиллионная группа населения, этот умственный слой советского общества пришел в движение и может взорваться в любую минуту — именно в силу униженности своего положения (в сравнении с Западом), а также в силу все возрастающего недовольства техническим отставанием (опять же в сравнении с Западом).
Наука и техника, как известно, наднациональны, то есть космополитичны; и в чем-то элитарны, а потому наши доморощенные политики из технарей настроены оппозиционно-радикально; им нравится идея «элитарной революции», которую проповедуют левые радикалы, и в их среде довольно успешно. В общем, они, как и молодежь, которой внушается, что она сразу должна все иметь, та питательная среда, где плодится западничество (точнее, американофильство, причем, как всегда у нас, больше на вере, чем на знании — а это ведь легче, чего голову-то ломать?), где вербуются сторонники «четвертой революции», где на вопрос о любви к России с холодком и презрительно усмехаются...
Н-да... Любая поездка — это не только новизна впечатлений, но и раздумья, раздумья...
От южной трассы, устремленной в Крым, к Черному морю, Спасское-Лутовиново находится, как писал в письмах, зазывая гостей, Тургенев, «всего в десяти верстах». Дорога в усадьбу по древнеримскому образцу — прямая: то длинно падающая вниз, то протяжно взбирающаяся к горизонту, за которым близко и медленно плывут облака. Вдоль обочин тянется цветастый травяной ковер; за ним — нескончаемые яблоневые сады.
Хорошо!.. В самом деле прекрасно!..
То и дело проносятся кавалькады свадебных автомашин: Спасское — освященное место паломничества.
Брожу по старинному парку в тенистых аллеях. Плотные кроны смыкаются высоко над головой — тишина, таинственность. Редкий солнечный луч вдруг золотисто-прозрачной струей прольется с небес, ярко высветив то корявый ствол, то задумчивую скамейку, то рано опавший лист. Но не видно ни выглянувшего солнца, ни голубого неба, ни облачных караванов... И ты неожиданно ощутишь себя совсем маленьким, совсем одиноким и потерянным в этом величественно-строгом парке. Но не пугают ни красавцы клены, ни гренадеры дубы, ни мачтово-стройные сосны и тем более свадебно-чистые березы. Наоборот, как бы оберегают, и ты действительно убеждаешься в их покровительстве, когда непредвиденно падет сумрак и опасливо застучит по листве крупными каплями случайный дождь — под кронами ты в безопасности.
Но вот вновь светлеет, уплыла недобрая тучка; и опять струятся веселые солнечные лучи и, будто в старинных зеркалах, поблескивают и потемневший корявый ствол, и мокрая скамейка, и прошлогодняя листва — тускло, загадочно... А высокое пространство парка переполнилось озонной свежестью, земля дохнула сырой грибницей; и ты уже поеживаешься от враз пришедшей прохлады и торопишься назад к уютному барскому дому.
Хорошо! В самом деле прекрасно!
Вся великая жизнь, чувствуешь, притаилась рядом, и ты невольно представляешь хозяина, влюбленного единожды и навсегда в это свое имение; и думаешь о возвышенной поэтичности сего дворянского гнезда. И знаешь, что именно оно вдохновляло Тургенева, создавшего здесь ли, за границей или в Санкт-Петербурге, однако с постоянной памятью о Спасском, неумирающие образцы русской природы, русского быта, русских характеров... Образцы красоты, поступков, нравственности, сострадания и еще, пожалуй, жертвенности...
Высокие слова... В самом деле высокие...
Но само место рождает их, и ты лишь соглашаешься, лишь мысленно повторяешь: красота... сострадание... Да, сострадание к ближнему, к тому, кто веками был придавлен рабской неволей. И вспоминаешь поэтическую любовь — длинные платья, белоколонные беседки, быстрые дрожки на лунных проселках... И борьбу с деспотической властью, с крепостным произволом, с гордыней