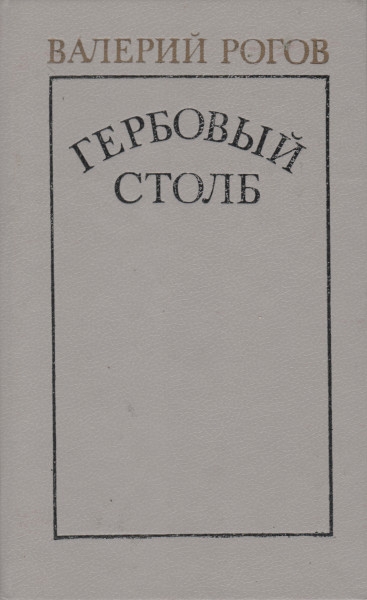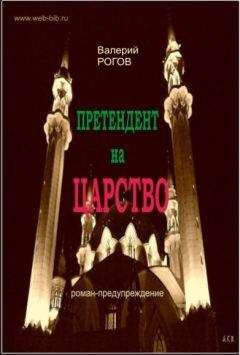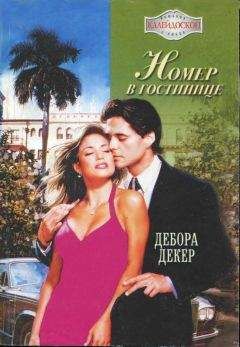барства... Да, за человеческое достоинство, за просвещение, за лучшую долю.
Высокие слова, в самом деле...
Но что ж поделаешь, раз они сами рождаются? Возможно, поэтому сюда спешат кавалькады свадебных автомашин с теми, кто вступил на совместную стезю — естественно, более ответственную, более возвышенную; вступил в жизнь, осмысленную по-новому.
Конечно, я не в первый раз завернул в Спасское, не впервые умиротворяюсь в освященном тургеневском парке, но, как и прежде, будто изначально стараюсь постичь сокрытые импульсы, родники озарения и жертвенность одинокого каторжного труда, что есть творчество.
В этот приезд мне больше всего думалось о безыскусных, но поразительных «очерках», составивших неповторимую книгу — «Записки охотника», явивших потрясающую картину российской действительности и в конце концов ставших художническим приговором казалось бы извечным, незыблемым устоям крепостного деспотизма.
«Записки охотника»... Какое множество русских типов! Вся дворянско-крепостная Россия. Все русское барство и отечественное холопство. Как понятия, как части национального характера, которые — и в господине, и в рабе его. И барство, и холопство, кстати, до сих пор часто уживаются во многих из нас. Сколько же будут еще уживаться? Наверное, до того времени, когда наконец-то воистину сделаемся свободными — от страха и лести, от упрямой гордыни и нетерпимого однознайства. Хотелось бы поскорей...
Великая книга, не умирающая... Много в ней глубинных раздумий о России и русских и пророчеств о грядущих неизбежностях. Столько, что и поныне многие страницы животрепещут. А автор, а художник, пожалуй, ни о чем и не подозревал, творя ее. Как это всегда бывает. Ах, да это и есть творчество, думалось мне, неведомое в своих итогах. Неведомое прежде всего творцу. Как неведомы отцу с матерью судьбы их детей...
Мне вспоминалось, что «Записки охотника» оказались первой русской книгой, ставшей широко известной в Европе, в остальном мире. Именно за «Записки охотника» Тургенев первым из европейских писателей, а тогда это значило и всего мира, — а ведь творили и Диккенс, и Бальзак, и Эдгар По — был награжден почетной докторской степенью Оксфордского университета, что по тем временам равнялось нынешним Нобелевским премиям...
Но это потом, а в николаевской России по повелению самодержца за малый проступок — за публикацию некролога на смерть Гоголя (да, уважаемый читатель, и это запрещалось) — Ивана Сергеевича заточили в «полицейскую часть» Санкт-Петербурга, где продержали более месяца. Попугав таким образом, отправили в бессрочную ссылку в Спасское, настрого запретив покидать пределы невеликого Мценского уезда.
В письме к супругам Виардо в мае 1852 года он писал:
«В деревне... примусь за свои очерки из быта русского народа, самого странного и самого удивительного народа во всем мире».
...самого странного и самого удивительного народа во всем мире — это о нас с вами, о всех нас...
Тургенев знал и любил Россию. На закате жизни он писал:
«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас не может без нее обойтись. Горе тому, кто это думает; двойное горе тому, кто действительно без нее обходится. Космополитизм — чепуха. Космополитизм — нуль, хуже нуля. Вне народности нет ни художества, ни жизни. Ничего нет».
Мне хотелось проехаться по проселкам в окрестностях Спасского — ведь «Записки охотника» этнографически точны. Так я сделал в июне 83‑го, в преддверии столетней годовщины со дня смерти Тургенева, вместе с тогдашним директором музея Борисом Викторовичем Богдановым — Бежин Луг, Петровское, Голоплёки, Полтево... Тогда особенно поразили Голоплёки, описанные в рассказе «Однодворец Овсянников», — своей пустынностью. Это были два ряда крепких домов, с окнами, грубо заколоченными крест-накрест досками; у поэтичного пруда с нависшими старыми ветлами лежала в развалинах краснокирпичная школа — деревню объявили неперспективной...
В Полтеве мы встретились с правнучкой «однодворца Овсянникова» Таисией Ивановной, заботами которой держалась небольшая двухэтажная больница, построенная еще в земские времена, перед первой русской революцией, двумя братьями-поповичами, ставшими учителями гимназий в губернской Туле. Тогда интеллигенты, особенно выбившиеся из низов, свято верили в народническую «теорию малых дел» и спешили делать добро. Их подвижничество еще сохранялось, угасая, в деятельности Таисии Ивановны, к которой со всей округи тянулись занеможевшие доярки и механизаторы, веря не мельтешащим молодым докторам, а ей, «безотказной фельдшерице»...
Помню, в разговоре с Таисией Ивановной меня удивила ее позиция, когда на вопрос о необходимости удержания на селе молодежи она убежденно ответила: «Нет, пусть уж спасаются по городам. Здесь они все сопьются...» И подтвердила, что такого же мнения отцы с матерями, из местных, из тех, на ком еще держится совхозное производство. И еще раз повторила «пусть уходят», потому что — «жизни на земле не стало».
«Пока будет к народу такое безразличие, такое наплевательство, — добавила с печалью, — ничего хорошего в стране не случится».
Мы тогда наблюдали неработающие совхозы — тот же имени Тургенева в Спасском, тот же «Полтевский», которые задолжали государству миллионы. Массовый уход молодого поколения с земли, с той земли, которая так ярко описана в «Записках охотника». Небрежно построенные панельные «агрогорода», наполненные (да и то частично! — что меня особенно поразило) люмпенским пролетариатом, в основном с уголовным прошлым. Эти люмпены вяло, скучно существовали и еще ничтожнее работали. Что ж, раз постоянно пребывали в похмельном состоянии. Наблюдали мы и местных «бурмистров», нынешних управляющих, которых зло называли «сытыми упырями....
Впрочем, хватит о том гнетущем безвременье, которое, между прочим, пока не изжито...
Как ни пытался я тогда выжать из себя текст, заказанный журналом, не смог и вынужден был отказаться... Вот почему мне хотелось теперь повторить маршрут и, как говорится, взять реванш; может быть, увидеть просветление. Но накануне пробушевали грозы, да вот и опять пролилась тучка: значит, проселки — черноземное тесто, и моему «жигуленку», конечно, их не одолеть...
Я стоял опечаленный перед тургеневским домом, смотрел на его веселый деревянный фасад — а он действительно веселый, но не торопился подниматься на веранду, потому что представил, как меня по-фельдфебельски строго вставят в ранжир «очередной группы» и принудительно поведут по дому, втолковывая то, что я, пожалуй, знаю лучше самих экскурсоводов, — но так положено. Кстати, кем? Министерством культуры? Орловским облисполкомом? Или самими сотрудниками музея, которым так удобнее?
Вспомнилось, как мы беседовали с деликатнейшим Борисом Викторовичем о новых формах музейной работы. Как мне верилось, что он, Богданов, «станет тургеневским Гейченко». Нет, не стал, ушел на пенсию... А тогда; в 83‑м,