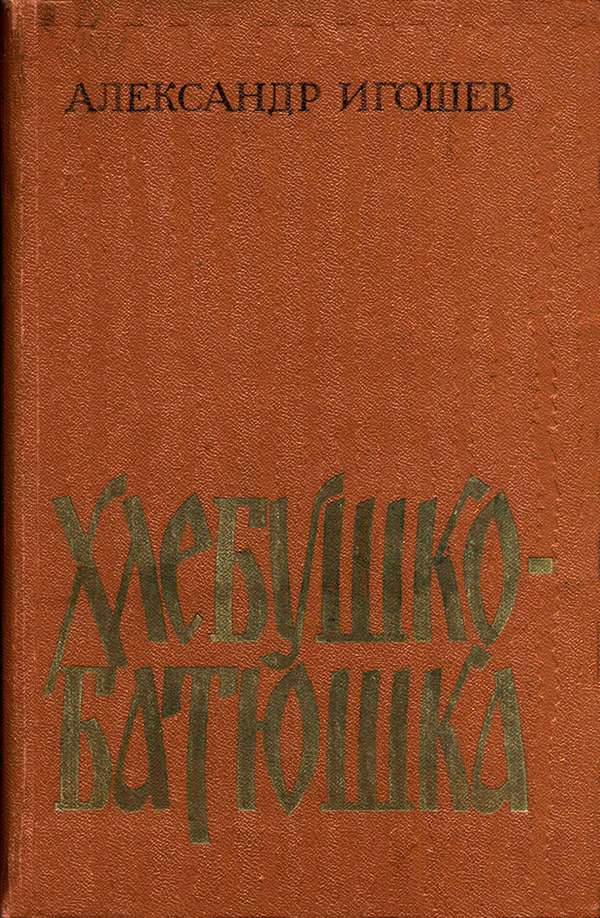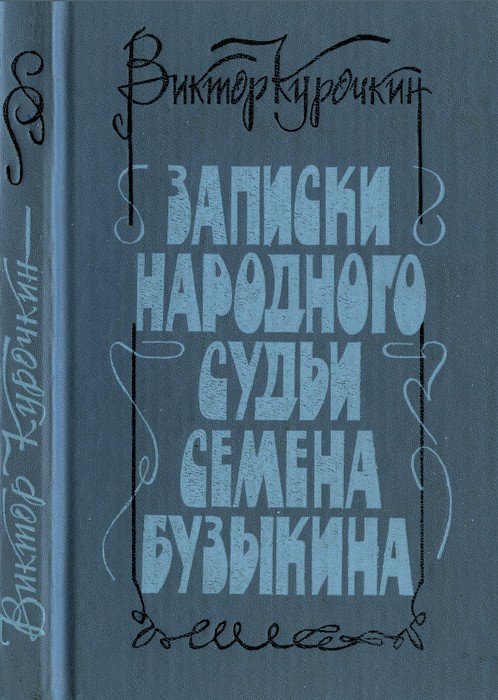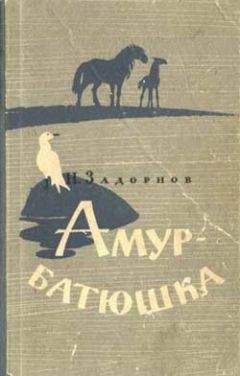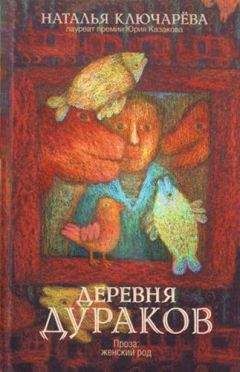его мыслей и идей и могу почти документально подтвердить то, что я говорю. Чем было бы без него открытие Берковича? Просто частным случаем широко распространенного явления. А он сумел придать ему характер чуть ли не всеобщности. Но вовремя понял, что на этом далеко не уедешь, — частный случай все-таки остался частным случаем — и стал искать новое место приложения своих идей. И после долгих поисков нашел… Что для тебя твоя пшеница? — обратился Богатырев к Павлу Лукичу. — Пшеница, и только. Новый сорт. А он на основе этого сорта открыл бы новые законы.
— Это были бы великие законы! — вскинул голову Сыромятников.
— Для этого он переманил к себе Важенкова, — не обращая на него внимания, продолжал Богатырев. — Для этого он занялся травами.
— Но при чем тут травы? — спросил Николай Иванович.
— Надо было переключить станцию на травосеяние, а Павла Лукича перевести в институт. Там он окружил бы его своими людьми. И новые законы были бы открыты. Он не присвоил бы пшеницу, нет. Успокойся, — положил он руку на плечо Аверьянову. — Он не плагиатор. Он воздал бы тебе должное, твое осталось бы при тебе. Изощренная, тщательно отработанная методика. Не так ли, профессор?
Сыромятников открыл дверцу машины и громко захлопнул ее за собой. В наступившей тишине заскрежетал стартер, будто скреб по живому. Мотор не заводился. Тогда Сыромятников, ни на кого не глядя, вылез из машины, приподнял капот, покопался в моторе. Мотор завелся. Не попрощавшись ни с кем, Игнатий Порфирьевич уехал. И тут бросилось всем в глаза, что Аверьянов бел как полотно, Богатырев взял его под руку:
— Идем-ка домой. Не следовало бы тебе вставать. Я бы и один…
Ученые разъехались.
Последним ушел с участка Николай Иванович. Стало слышно, как шептались колос с колосом о чем-то своем, простом, извечном и разумном, и слушали их летний ветер и прогретая солнцем земля.
3
Никогда прежде Николай Иванович не чувствовал себя так устало, как теперь, — точно в нем день за днем закручивалась пружина, все туже и круче, и вот она ослабла или надломилась от напряжения. Железо и то имеет предел, за которым лопается от усилия, а он ведь — человек.
Никогда и ничем за свою жизнь Лубенцов не болел. Не простужался, не перегревался, не знал ни слабости, ни переутомления, был крепок здоровьем и бодр духом. Видно, в нем давно копилась усталость. Человек устает от забот и переживаний. Пока он молод, ему кажется — все проходит бесследно, и лишь с годами обнаруживается, что переживания копятся, как заряды в аккумуляторе, и неизбежен опустошающий разряд… Но ведь он еще молод. Ему нет и сорока. И жизнь, которую он вел, была правильной. Со всей силой веселого, никогда не унывавшего человека Николай Иванович любил такую жизнь — с постоянной борьбой, спорами, с преодолением препятствий. Отчего же теперь он почувствовал в себе надлом?
Была какая-то прелесть в тихой задумчивости солнечного дня, в высоком прозрачном, точно стеклянном небе, в скошенном и чисто прибранном луге с копнами и стогами. Ему обычно нравилась не весна с молодой, свежей, только что народившейся травой и не середина лета, жаркая, пышная, полная зрелой прелести и красоты, а вот такие недолгие дни предосенья, тихие, ясные, бодрые, на переломе от лета к осени; он наслаждался чистым, напоенным запахами сена воздухом, ширями и далями выкошенных сенокосов, радующими глаз просторами созревающих полей. До него долетела горьковатая струйка дыма от костра. Он потянул ноздрями смешанный с его приятной горьковатинкой ветерок; что-то давнее, чистое и забытое, шевельнулось в нем глубоко-глубоко.
Луг кончился. Он вышел на дорогу, за которой начиналась «аверьяновка». Ее уже собирались косить. Комбайн краснел издали длинным остовом, белым пятном выделялся тент над штурвальным мостиком; слышно было стрекотание режущего аппарата, шум молотилки — комбайн пробовали вхолостую. Комбайнер обошел кругом машину, разглядывая, как работают звездочки и цепи, осмотрел мотовило, заглянул в соломотряс. Подъехали бригадир и председатель. Комбайнер заглушил мотор. Началось коротенькое совещанье.
Николай Иванович позавидовал тем, кто стоял у комбайна. С чистой совестью будут убирать они свой урожай. От поля тянуло свежим хлебным духом. И так был дорог ему золотеющий под солнцем простор, что у Николая Ивановича перехватило дыхание.
Вера Александровна, узнав о том, что случилось в поле, прибежала к Аверьянову. Павел Лукич лежал на кровати, молчал; когда она вошла, безучастно глянул и отвернулся. Богатырев сказал:
— Сейчас приедет доктор, — и вышел в прихожую покурить.
Вера Александровна метнулась за ним.
— Что с Лубенцовым? Говорят, ему тоже было плохо?
— Не думаю, чтобы ему было хорошо.
— Где он?
— Да вы не беспокойтесь о нем. Мужик здоровый. Что ему сделается? Перенесет, такая встряска ему на пользу.
Богатырев говорил еще о чем-то, но Вера Александровна уже не слушала. Она кинулась в сени, дробно пересчитала ступеньки крыльца. На лбу у нее вздулась жилка. Одна мысль билась лихорадочно в голове: найти, увидеть, сказать какие-то слова…
Ни в конторе, ни на участках Николая Ивановича не нашла. Кто-то сказал ей, что видели его за лесом на колхозном поле. Вера Александровна побежала туда.
Он сидел у стожка сена, расставив колени и положив на них руки, и курил, как пахарь после рабочего дня. Обрадовался, глаза ожили, но ненадолго; он опустил их и, не глядя, сказал:
— Посидите со мной, но не говорите ничего. Не надо меня ни утешать, ни ругать.
Вера Александровна села. Перед ними полосами рядна расстилался луг. Стерня привяла и стояла ворсисто, а между нею на низких влажных местах уже выпирала отава и грозила затопить ее в зеленом половодье живучих трав. Вера Александровна чувствовала, как от какой-то мучительной мысли напряглось его тело. Она положила руку на плечо Николая Ивановича и слышала, как спадает напряженье. Он привалился к стожку и задышал ровно и глубоко.
Игнатий Порфирьевич застал у жены ее брата Якова Львовича. Аделаида была в слезах.
— Скажи, что мне делать с ним? — обратилась она к мужу, заламывая руки. — Его опять уволили с работы.
— За что?
— Видите ли… разные причины… Не сработался, — замялся Яков Львович.
— Причина, я знаю, одна — пьянство. Пусть кто угодно помогает ему, а я вам больше не помощник! — вскипел Игнатий Порфирьевич.
Он накричал на Аделаиду и ее брата и поехал в город. Быстрая езда успокоила его. Он уже без злобы думал о Якове Львовиче, и в этих раздумьях был для него второй, глубинный смысл: мыслями о нем Игнатий Порфирьевич отгонял другие тревожившие его мысли о том, что произошло