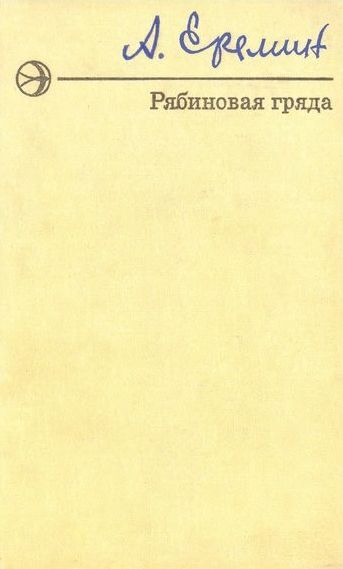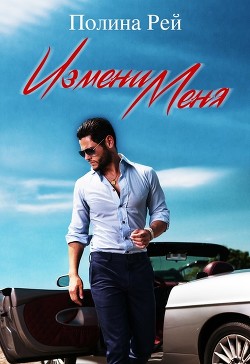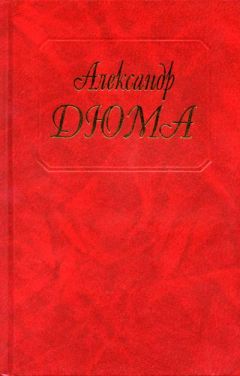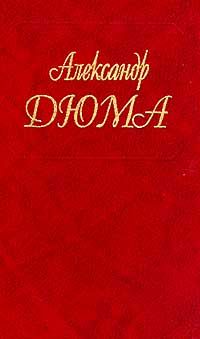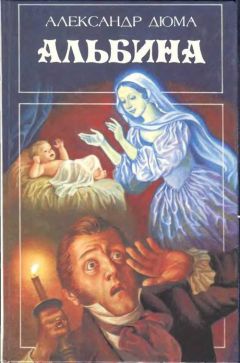во тьму. Просыпаюсь, в комнате у меня тихо, будущие светила науки разошлись; любительница тостов рядом со мной, в постели. И эту пленил. Некрасивая, с толстыми веками. Спрашиваю, хоть зовут-то, мол, как тебя. Катя, говорит, имя хорошее, по-гречески значит беспорочная. И вообще, говорит, мы теперь муж и жена со всеми вытекающими последствиями. Ладно, говорю, со всеми, вставай, мадам.
Вот так, Танюша. Не знаю, буду ли я ученым, а женатым уже стал. Мадам у меня ухватистая, цепкая. Забрала мой паспорт, сводила меня в учреждение, где нашего брата феи нынешние казенными печатями к себе припечатывают. Как в сказке: от Варьки ушел, от Соньки ушел, от Капки ушел, а от Катьки не откатиться.
Я не жалуюсь. Мадам домовитая, хозяйственная. Месяца не прошло, отдельную комнату вырвала. Живем по пословице: стерпится (авось) — слюбится (никогда). Вообще, особа она мрачная. Когда прихожу не то чтоб очень пьян, но весел бесконечно, где бы раздеть, уложить, так нет, пошуметь надо. Глотка у нее здоровая. Кулаки тоже. Если и укладывает, так боксерскими приемами. Раз-другой — и в нокаут».
Читаешь — и жалость берет, и досада. Чем хвалится! Что комиссию босяцким видом потешил. Какая-то Катя подкатилась, женила на себе. Безвольный, живет минутным желанием. Ни ясного у него пути — таких и зовут беспутными, — ни большой цели, ради которой гореть бы надо, ночей недосыпать. Все он будто мимоходом делает, нехотя. Поступил учиться, скорее бы за трактаты — рефераты… Ему бы одержимому наукой быть, а он — весел бесконечно.
Написала ему, что не будет, мол, у тебя мой Митька учиться, как экзамены сдавать, лучше ты у него серьезности поучись, трудолюбию. В пример и Сергея привела: всеми уважаемый, потому что людям нужен, и доверие ему не только от Кряжовска, ото всей округи. А тебя, мол, в университете учили, сколько, наверно, деньжищ, чтобы тебя выучить, ухнули — и не впрок.
Не знаю, обиделся ли на мои укоры, Катерина ли ему переписываться со мной не велит, только зима прошла, весна, лето на исходе, — от Павла ни строчки.
Митя готовился, писал реферат. С мировой скорби переключился на «Лапти» Замойского и «Девок» Кочина, вообще, на тему советской деревни.
Опять уехал в Москву. В тревожном нетерпении жду, чем кончится второй заход.
Телеграмма: «Сдал принят». Читаю свекрови, говорю, какой у нас молодец Митя, а втайне жалею, что не было нынче на него Переверзева.
Приехал. Сияет. Восторженно рассказывает, какой с ним экзаменационный диалог вели светила литературной науки — Бельчиков, Гудзий, Юрий Соколов… У меня свое камнем на сердце: три года врозь. Не велика даль — Москва, приезжать будет, а все-таки… Утешаю себя: остаются же другие солдатками.
И я осталась. Ладно, что и в колхозе дел много, — в огородной бригаде учетчицей меня поставили, и по дому хлопот не оберешься, и Вася не дает скучать. По вечерам письма с ним сочиняем отцу.
Митя пишет часто, поэтому о его делах я знаю решительно все: о чем будет его диссертация, кто у него научный руководитель, что входит в кандидатский минимум, когда какую дисциплину будет сдавать.
Написала Пане, вот, мол, и свояк у тебя стал аспирантом. Думаю, хоть на эту новость откликнется.
Месяца через два ответил. Снисходительно поздравляет Митю, желает… Дальше — «только моей сестренке Танюше». Длинная бессвязная исповедь. Разочарование в науке, в мадаме, в себе.
«Неувязка с экзаменами вышла. Аспирантура — адьё. Мадам довольно складно заявила, что такого мерина кормить не намерена. В политике это называется ультиматум. Поклонился своей законной и в дорогу, искать подходящего места. Приглянулась Любань. Название красивое, на любовь похоже. Месяца не прошло, и мадам едет: разлуки со мной не вынесла. Итак, продолжение следует. Оба учим в школе. Мадам ждет потомства. Аспирантура и для нее стала туманным воспоминанием.
На днях пожаловала Капка. Толстая, с лицом каменной бабы. Мадам поглядела на ее ручищи и от полемики с применением боксерских приемов воздержалась. Капка повыла толстым голосом, уехала.
Новое явление: Сонька. Мадам не было, гостила у родни. Сонька умница, вытьем донимать не стала. Видит, грязь у меня, окурки, пустые бутылки, постель дыбом — давай прибирать. Самого оглядела. А я в одном пиджаке, без рубахи и в тех же знаменитых брюках клеш. Ох и взгляд! Я под ним как в санпропускнике побыл. Куда-то сбегала, приносит новую рубаху и такие брюки, что у меня, Танюша, дух захватило. Мечта. Ай, Сонька! Давай переодевать меня. Я ничего, покоряюсь. Не успел пуговицы застегнуть, — мадам. Что тут было! Последний день Помпеи. Битва кентавров. Вдруг мадам осенило что-то. Выпустила Сонькину ржанину и деловито предлагает ей купить пяток каракулевых шкурок, кожаные женские сапожки и дюжину замшевых перчаток.
— Там у себя втридорога продашь.
Сонька причесывается мадамовой гребенкой, обе садятся за стол, перебирают товар, торгуются.
Идиллия.
Правда, Сонька писала потом: шкурки еще дорогой облезли; перчатки расползались, когда их пробовали надеть, сапожки оказались худыми.
Вот так и живем. Скоро буду отцом законного семейства, может быть, многочисленного, потому что по некоторым признакам мадам плодовита.
Жизни мышья беготня…»
Дочитала письмо и расплакалась: что за беспутный Паня. Вот уж верно о таких говорят: куда ни поедет, семь верст не доедет.
23
В марте я ждала второго ребенка и последние две недели испытывала почти неутихавшие боли. Надо было беречься, а я таскала с ключа из-под горы по скользкой обледенелой тропинке пудовые ведра, ворочала в печи непомерной тяжести чугун с водой, выносила корове болтушку. Сказать свекрови, что все это не под силу мне, стеснялась. Сама она уходила с утра на колхозную работу — перебирала семенную картошку, возила с поля солому, резала в лесу ветки на корм скоту.
К середине месяца я уж не могла даже дрова покидать в печь, не то что поставить чугун на шесток или сходить на ключ. Свекровь стала оставаться дома. Вечно в делах, заглянет ко мне, спросит, как я; скажу, ничего, мол, и опять уйдет. У нас пяток куриц и корова Лаура, — мы купили ее теленком, и я в память о рыжей Соне дала ей эту кличку. Хозяйство не велико, но свекровь весь день на дворе.
Живем мы с ней мирно, за восемь лет попривыкли друг к другу, и хоть зову ее мамой, как положено снохе звать свекровь, душевной близости меж нами нет. Мама, да не родная.
Студеной, как в январе, ночью боль подступила такая, что я заметалась на постели, кой-как поднялась, зажгла ночник. На ходиках половина первого. Слезла с печи свекровь, спрашивает, что я брожу. Время, говорю, наверно, подходит