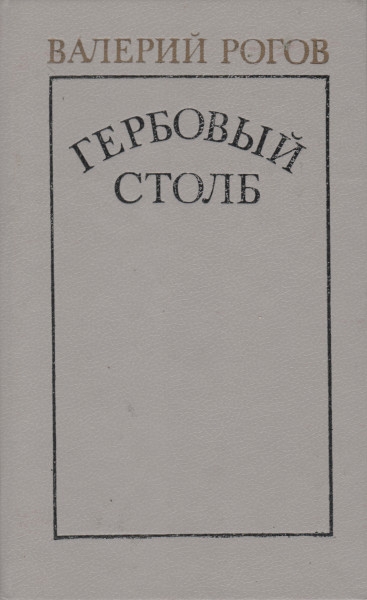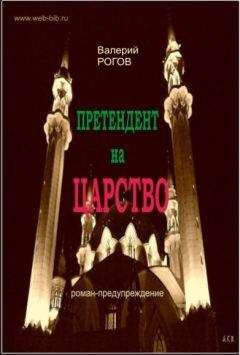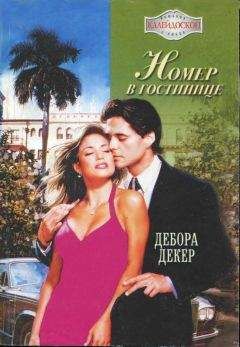они, как бабки в церкву, — в любую стужу прут. Я-то их знаю. У них идея. Понимаешь, идея! А ты — мороз. Бутылку проигра-а-а-л!
— Ну, хватит, Петька, помолчи, — спокойно урезонил Трофимыч.
Богданов заметил, что в выражении лица Трофимыча нет ни досады, ни сожаления. Более того, оно кажется посветлевшим, будто Трофимыч чему-то и обрадовался. Чему-то своему, глубоко запрятанному. Чтобы все же скрыть это, хмурится, стыдливо прячет глаза; весь ссутулившись, идет к трактору. Рядом громкий, торжествующий Петька:
— Проигра-а-л! Проигра-а‑л!..
Трактор грозно рычит, лязгает гусеницами: Петька решительно разворачивает его на месте — и уже на пределе возможной скорости прет в поселок.
«Эх, Россиюшка! Эх, матушка!» — качает головой Богданов.
Он долго смотрит вслед, слушает громкое удаляющееся урчанье. Ему думается: а ведь Петька наверняка служил в танковых войсках. И если придется... А Трофимыч? Этот — солдат второй Отечественной. И застыдился, видно, потому, что уж очень неприлично радовался Петька своему выигрышу. А ведь скучно парням. Повеселились, заключив пари, и теперь разговоров об этом надолго. Но Трофимыч все-таки спорил не для того, чтобы убедить другого, а чтобы убедиться самому в том, во что хочет верить.
Богданов идет по пустынной широкой дороге к Семеновскому. Сверкает серебристый лед наезженной части. Он держится скрипуче-поющей обочины. Дорога отгорожена от ветреного простора сугробной стеной чуть ли не в человеческий рост: Петька постарался! Но ветер всепроникающ, нападает отовсюду. Он опускает уши на шапке, подтягивает повыше шарф.
Эх, помчаться бы! поскакать! Как драгуны или гусары в тысяча восемьсот двенадцатом. Или бежать со штыком наперевес. Как воины лейб-гвардии Измайловского и Литовского полков. Забыв. обо всем на свете, кроме неприятеля, посягнувшего на Россиюшку...
«А бежать-то и сейчас можно!» — радостно думает он. И Богданов бежит по пустой дороге — во всю мощь, как на стометровке, пока не устает. Разгорячился, даже вспотел. А ветер недоволен, давит в лицо, сердится, обмораживает.
Эх, зимушка! Кто тебя из них — из тех, из заграничных не приятелей и не другов — поймет и полюбит?! Ты их пугаешь! Ты их злишь! Ненавидят они тебя. Такую суровую! морозную! снежную! А для нас! Ты — наша часть! Часть души, сердца, существа нашего. Силы нашей! Разве может русский человек без зимы?! Без этого преодоления? Без этого испытания? Постоянного, извечного. Поэтому мы вдвое сильней в годину несчастий. В наших белых снеговых просторах. Сила ты наша, зимушка!
«...а ведь наступали зимой сорок первого — сорок второго, не имея превосходства ни в людях, ни в танках, ни в орудиях», — думается ему.
Начались деревянные избы и новые кирпичные дома деревни Семеновское. В снежной дали величественно вырос Спасо-Бородинский монастырь. Там, где когда-то были семеновские флеши, названные в день битвы именем умирающего командарма — Багратионовы...
После генерального сражения Михаил Илларионович Кутузов доносил царю о том, что: сего дня было весьма жаркое и кровопролитное сражение... русское войско не уступило в нем ни шагу, хотя неприятель в весьма превосходных силах действовал против него.
Не уступило ни шагу!
«Если сопротивляться превосходящей силе, — думает Богданов, — то сила эта дрогнет. Обязательно дрогнет! А это значит: каждый становится сильным, когда не сдается. Именно так!»
Наполеон, прежде чем напасть на Россию, завоевал почти всю Европу. Западную, конечно. Он привел на Бородинское поле двунадесятиязычную армию... Что есть Россия для Европы? Таинственные пространства? Пожалуй. Загадочная душа? Пожалуй. Что еще? Нелюбовь и боязнь... Что есть Европа для России? Со времен Петра — культ! Знаний, порядков... Англомания, германофильство — только некоторые из затяжных болезней верхних слоев общества... Россия никогда не посягала на Европу! А Европа? Постоянно! Странно: в русских совсем не развито чувство национального превосходства! А в западноевропейских нациях? У многих — чрезмерно! Но разве Россия не принадлежит Европе? И да, и нет... Как и Соединенные Штаты, рожденные Европой. Следующее столкновение? Нет, никогда!..
От центра Семеновского, где выделяется стеклянно-кирпичный магазин, перпендикулярно к «тракту», как возвышенно поименовал Петька путь к музею, начинается прямая дорога к Спасо-Бородинскому монастырю. По ней одиноко идет женщина в зеленом пальто. «Как елочка во чистом поле», — думает Богданов. Он в нерешительности: идти ли к монастырю или продолжить путь к музею? Конечно, к монастырю. Ведь первый памятник на Бородинском поле, воздвигнутый именно здесь, на Багратионовых флешах, в тысяча восемьсот восемнадцатом году — часовня на месте гибели тридцатичетырехлетнего генерал-майора Александра Алексеевича Тучкова. И поставила ее юная вдова Маргарита Михайловна Тучкова, спустя двадцать лет ставшая игуменьей Спасо-Бородинского женского монастыря: хотела умереть на месте гибели мужа, быть похороненной рядом, а там... вновь встретиться? Как же незабвенно она его любила!
«А как любят нас?» — задался вопросом Богданов, но даже не подумал ответить, потому что, как казалось ему, знал: не так, вернее — так уже не любят.
Он вошел в стены Спасо-Бородинского монастыря. Вот и скромная часовня рядом с громадой красивого пятиглавого храма. Узкие железные створы дверей приоткрыты. Он решительно, двумя руками, их распахивает. За решеткой — большой гроб. Да, гроб. Обит малиновым бархатом. На высоком рессорном катафалке. В нем, этом малиновом гробу, на этом черном катафалке в мае тысяча восемьсот тринадцатого года везли из Европы тучное израненное тело шестидесятисемилетнего главнокомандующего победоносной Русской армии Михаила Илларионовича Кутузова. Он умер, не дожив до окончательного разгрома Наполеона. До триумфального вступления русских войск в Париж. Почему? Мучительная загадка...
Богданов вглядывается в полумрак, и ему становится не по себе. Ему кажется, что он видит сквозь гробовые доски усохшие мощи святого фельдмаршала. Он вздрагивает: ему чудится, будто у серого гранитного креста справа от позолоты алтаря — не призраками, а как живые — встают молодой цветущий красавец в аксельбантах и эполетах и... старая женщина во всем черном, с желтым восковым лицом, с сурово-карающим взглядом — убиенный генерал и страждущая игуменья, муж и жена... Богданов поспешно захлопывает железные створы и пятится назад.
— А ведь правда, страшно туда заглядывать? — вдруг слышит он за спиной. Он резко оборачивается. На него понимающе смотрит, чуть улыбаясь, та женщина в зеленом. Она молода: щеки на морозе — как арбузные; до смоляных бровей — пуховый платок; на ногах поношенные валенки на толстой подошве. Глаза у нее — зеленоватые, большие и ясные; а в них — приветливая доброта. И такая она русская — круглолица, свежа, крепка,