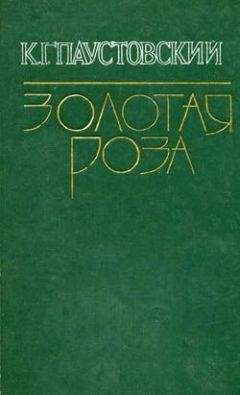С началом германской войны торговля на Меновом дворе заглохла, а его помещения приспособили для содержания пленных немцев, австрийцев, чехов, сербов, мадьяр. Иные богатые мужики брали отсюда пленных к себе на работу. С началом гражданской войны многие ушли в интернациональный батальон, другие так и остались по деревням, пережидая разгулявшуюся кровавую бурю.
С восемнадцатого июня Меновой двор был превращен в кровавый застенок. Сотни раненых и пленных красноармейцев заполнили двухэтажные голые нары в камерах до отказа. Люди спали друг на дружке. О какой-либо медицинской помощи раненым и речи не было. Тем более не приходилось говорить о том, чтобы помыться или сменить белье.
Мгновенно во множестве расплодилась вошь. И ко всему этому — постоянные допросы, пытки. Даже до отхожего места пройти было не безопасно: без всякой причины пленных били прикладами и шомполами. Вечерами заглядывали сюда ухари офицеры, желавшие поразвлечься кровавой игрой. Они уводили десятками пленных и расстреливали их в степи за Меновым двором.
В муках от незаживаемых ран умерли сотни красноармейцев. Из станиц, поселков, деревень сюда пригоняли новые партии арестованных, которых ожидала участь тех, кто освободил им место в этом кромешном аду. Но подобное истребление людей казалось недостаточным.
Товарищ прокурора и председатель Троицкой следственной комиссии Тельфонт, бывший прокурор Саратовской судебной палаты, дряхлый старик, тряся отвисшим бритым подбородком, постоянно внушал своим подчиненным:
— Эту мразь, этих подонков общества надо расстреливать тысячами и тысячами, если хотя бы с десяток из них окажутся виновными перед властью. И только это послужит ко благу возрождения матушки России.
Именно это стремление — убивать тысячами — привело к замыслу сформировать специальный поезд с пленными красноармейцами и отправить его на восток. Через несколько недель после восемнадцатого июня первый такой поезд был сформирован и отправлен в Сибирь. По дороге его спустили в Байкал. Это жуткое злодейство скрыть от народа не удалось. О нем узнали иностранные журналисты, а через них — во многих странах за рубежом. «Поездом смерти» назвали тот эшелон.
* * *
Роман Данин, тот самый Ромка, что, появившись на свет недоношенным, казалось, тогда уже был безнадежным, выжил и тогда и уцелел пока даже в аду Менового двора. Не сбылись его надежды попасть в лазарет со своей покалеченной ногой. Перевязывал ее все теми же тряпками от разорванной Яшкиной рубахи, выбирая куски почище, чтобы наложить на рану. И как ни удивительно, рана постепенно затягивалась.
Николаевский мужик, с которым в вокзале познакомились, так и отбился куда-то в сторону. Может, он опасался соседства с сынком красного трибунальца, может, вывели да расстреляли, как многих. Да и жив ли он — рана-то была огромная. Могли, конечно, и с «поездом смерти» отправить.
Роман оказался среди множества совершенно незнакомых людей. И он не старался знакомиться ни с кем. Люди постоянно менялись. Одни умирали, других уводили, и они не возвращались, а приводили новых, в крестьянской одежде, с мешками. Были среди них молодые и пожилые. И все это возилось вокруг в ожидании мучительной смерти. К тому же, вошь заедала и сводила с ума.
Большую часть своего горького существования Роман проводил в одном и том же углу на верхних нарах. Душно там было, жарко, зато безопаснее, чем в других местах. Не раз в камеру заходили охранники и настойчиво выкликали Романа Данина. Он молчал, затаившись в своем углу. И опасность проносилась мимо.
А однажды, уже в начале сентября, от входной двери послышался знакомый голос Родиона Совкова:
— Роман Викторович Данин!.. Роман Данин есть среди вас? Роман Данин! — повторял он, проходя возле нар и пытаясь заглянуть в лица лежащих арестантов. Но к нарам вплотную не приближался, боясь, видимо, прихватить насекомых.
Услышав этот страшный голос, Роман подтянул под себя, насколько возможно, замотанную в тряпки ногу, накрылся с головой шинелью и затих. А Родион, осмотрев арестантов на нижних нарах, насколько это было возможно в полутемном помещении, стал заглядывать на верхние. И было взялся уже за шинель Ромкину, чтобы сдернуть ее, но сопровождавший его охранник упредил:
— Не трожь этого, небось, тифозник. Ишь, в этакую жару зябнет.
Родион брезгливо отдернул руку и, просмотрев верхних, отошел к двери, размышляя вслух:
— Неужли он удрал с вокзала в ентот раз? Не шибко ранен, выходит, был.
— А може, его с тем поездом отправили? — предположил охранник.
— Едва ли, — возразил Родион, собираясь закурить. — Я ведь у самого Тельфонта все те списки просмотрел. Нету!
— Ну, пойдем еще поглядим в двух последних, — позвал охранник. — Може, там сыщешь свого шуряка.
Из множества мелких лавок в Меновом дворе было сотворено шестнадцать больших камер. Стало быть, сыщики проверили уже четырнадцать. Не зная Родиона и его дел, могло показаться, что ищет он родича с благими намерениями. Но Роман-то знал, что тут произошло, и буквально почувствовал прикосновение смерти. Обошла она его и на этот раз.
Ни о брате, ни об отце ничего не ведал он. И недавняя домашняя жизнь казалась теперь далекой-далекой, невозвратно утраченной и прекрасной. Будто шел-шел под солнечным небом по родной ковыльной степи и враз провалился в преисподнюю. Выхода отсюда нет и не предвидится.
Начали перепадать дожди, пока не очень холодные. Но ступать на мокрую землю пяткой, замотанной тряпьем, было неприятно. Да и бинт этот загрязнился до предела и истрепался вдрызг. Пришлось разодрать свою нательную рубаху, тоже замызганную до черноты. Выбрал куски почище, забинтовал ногу и попробовал надеть сапог. Не получилось.
С неделю назад поселился возле него парень. Ростом невелик, не больше Ромки, а сапожищи на нем большие. И по годам такой же зеленый. Видать, откуда-то из деревни пригнали беднягу. Целый час мучился Роман, не решаясь заговорить. Одичал он, замкнулся намертво и голоса своего давно не слышал. Но потом все-таки спросил:
— Тебе не велики ли сапоги-то, земляк?
— Великоваты изрядно, — ответил парень, садясь на нарах рядом с соседом, — да дома других не водилось и тут поколь не сулят.
— А ну-ка примерь вот мой, — подал ему Ромка сапог. — Может, подойдет? Я на больную ногу никак надеть не могу.
Скинул парень свой сапог и натянул Ромкин.
— Как тут и был сроду! — прищелкнул он языком. — Будешь меняться? Мои чуток побольше потоптаны, да и у твоего носок отшиблен.
— Давай! — обрадовался Ромка, стаскивая с ноги сапог. — В твои-то, может, обуюсь.
Поменялись. Пришлось еще половчее и тоньше намотать бинт, зато потом даже с носком наделся сапог на больную ногу. Два с половиной месяца не бывала она в сапоге. И не только простое удобство приободрило Романа — теперь он стал менее приметным среди своих собратьев. Хотя и в одном сапоге был он тут не единственным, но все же теперь и эта примета отпала.
Никто из мучеников Менового двора не мог знать свою судьбу не только на завтра, но и на ближайшие часы. Еще больше порадовался бы Роман обмену сапог, если бы знал, что готовит ему и многим узникам глухого застенка, куда за версту не подпускали ни родственников, ни знакомых, новый день. Не знал он и того, что еще в июле побывала в городе мать, но ничего узнать не смогла.
А вечером следующего дня, когда на город опустились черные осенние потемки с ленивым мелким дождем, вошел подпоручик с папкой в сопровождении охранника и объявил:
— Сейчас я буду выкликать фамилии. Всем названным с вещами становиться вот сюда, в проход. — Он развернул папку и, не отходя от двери, начал громко читать: — Богданов Иван, Гладков Федор, Галимов Ахмет, Деревянкин Кузьма… Косачев Ефим… Ковальский Яков…
Словно подстегнутый бичом, вскочил Ромка, захватив шинель и котомку. К новой фамилии он уже давно приучил себя в мыслях. Когда раненых привезли с вокзала на Меновой двор и впервые переписывали, назвался он Ковальским. В узком проходе теснилось уже человек сорок, поднятых с нар. А подпоручик продолжал читать. Потом он захлопнул папку и приказал охраннику:
— Считай на выходе! Должно быть шестьдесят два человека. — И крикнул арестантам: — Выходи все во двор! Не толкаться!
Считая выходящих, охранник толкал каждого прикладом в спину. Иные падали от удара. Получил свою порцию и Ромка, едва устояв на здоровой ноге. В темноте двора выстраивалась по четыре в ряд огромная колонна. Наверно, целый час еще гнулись под дождем, пока выстроилась колонна, и снова пересчитали всех. Потом ворота растворились, и масса людей, поворачивая к городу, попала почти в сплошную ограду охранников.
Чтобы не попадать им под руку, Роман с самого начала встал в середину ряда. На крайних то и дело кричали конвойные, лупили прикладами. Через полчаса, миновав мост через Уй, по Набережной улице и Харинскому переулку, мимо маслобойни Русяева, направились к мосту через Увельку. И всем стало ясно, что гонят их на вокзал. А по рядам понесся тревожный шепоток: