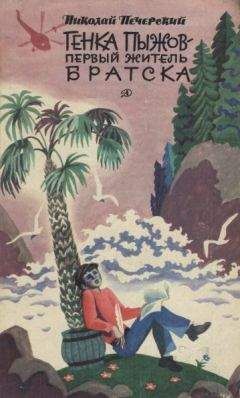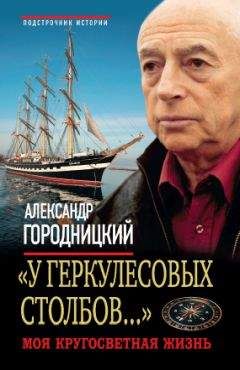— Что это с ним опять? Или заболел, или снова не в чем ходить ему?
Мы отделились от зрителей, столпившихся у края картофельных участков, и двинулись навстречу огню и прыгающим теням:
— Куда! — окликнул нас высокий цыган в овчинной телогрейке, но в голосе его было только пьяное беззаботное удальство.
— Колька Мазур здесь?
— Здесь. А чей ему будешь?
— Свой…
Цыган рассмеялся, крякнул.
— Свой! Ах ты, ребячья душа! Свой…
— Честное слово, мы учимся в одном классе…
— Ну, проходи смелей, коли так.
— А ему можно? — Я потянул за собой Дольку.
— Всё можно, — благодушно ответил цыган, глядя уже не на нас, а на свивающиеся языки пламени. — Эх, горит… Эх, горит!
Колька важно похаживал возле костра, весь медно-красный в свете его, и озабоченно ворошил хлам ножкой от стула. Он не удивился, увидев меня, словно так оно и должно быть.
— Привет, Колька.
— Здорово.
— Это мой друг.
— Ага.
Колька был все в том же куцем пиджачке, в бумажных брюках, заправленных в сапоги с напуском на голенища, но и в этом ему было жарко. Лицо у него горело, а над верхней губой блестели капельки пота.
— Уезжаете?
— Уезжаем, — легко откликнулся он. — Видишь, наши гуляют?
— Холодно еще…
— Ничего, мы — народ крепкий. Цыгана холод не берет, когда он пляшет и поет.
— А школа как же?
Колька снисходительно усмехнулся.
— А на что мне школа? Это вам она нужна.
— А тебе?
— Я плясать и петь умею… — Колька оглянулся, увидел, что все взрослые собрались возле дома и громко спорят о чем-то, и горячо заговорил: — Мы теперь к Москве двинемся, а там меня в артисты определят. Буду ездить по всей стране, петь и плясать. Будут у меня красные сапоги и много-много денег — некуда будет девать…
Он рассказывал о своей будущей жизни так, словно она уже началась, а глаза у него были, как у волчонка.
— Наталья Ивановна всякий раз спрашивает. Говорит — что это с ним? Проведать бы надо. Может, заболел, а может, опять у него сапогов нет…
Черные, глубокие глаза, Мазура погрустнели.
— Хорошая она, Наталья Ивановна. Я ее помнить буду. Я ей билет на концерт пришлю и фотку…
— Колька! — позвал из толпы взрослых хриплый женский голос.
Мазур швырнул в костер ножку от стула и со всех ног пустился к дому.
— А что Наталье Ивановне сказать?
Он остановился, мелькнуло в отблесках огня его лицо.
— Передай — уехал я!
Мы с Долькой двинулись назад. Когда огромные и шаткие наши тени перекинулись на фабричный забор, Долька спросил:
— Ты ему поверил, да?
— Не знаю. А ты?
— А что тут такого? Он хочет так жить.
Долька особенный упор сделал на слове «хочет», словно достаточно было этого, чтобы осуществить все, о чем мечтали многие мальчишки послевоенной поры.
Кольку я снова и последний раз увидел летом.
Он сам разыскал, где я живу, сидел часа два, равнодушно рассматривая книги, вяло и виновато говорил о Москве, об ансамбле, в который его должны принять — «там все свои», потом попросил воды, непременно холодной. Я вышел на кухню, зачерпнул кружкой из ведра, принес. Он все так же сидел у стола, щуплый и сиротливый в своем обтрепавшемся пропыленном пиджачке, но глаза у него были настороженные. Вскоре он ушел, неловко сутулясь. Буханки хлеба, купленной в полдень, я хватился только вечером, когда мама вернулась со смены. Я ничего не сказал ей про Кольку Мазура. Она напекла надоевших картофельных оладьев. Я давился этими оладьями так, что слезы выступали из глаз, и думал: «Неужели Колька Мазур так хочет жить?»
И содрогнулось небо
Ушло время наползающих одна на другую и стеклянно поблескивающих льдин, буйных весенних вод и дерзких, но беспомощных корабликов. Сошли снега — истаяли медленно в низинах и лесных оврагах. На их месте чистым, голубым, весенним цветом играли озерца, а на пригретых солнцем пригорках, на откосах железной дороги коричнево-охряные тона оголенной земли и сухих прошлогодних трав быстро растворялись в нежной густеющей зелени.
После трудной и долгой зимы особенно радовали нас и будоражили ласковое солнечное тепло, мягкие и шелковые лапки вербы, свежий и сладкий березовый сок, яркие цветы одуванчика, пробившиеся даже из-под стены фабричной проходной, короткие и веселые дожди. Очень вдруг захотелось жить счастливо. Лопнула почка на ветке, поставленной в стакан, из нее, как клювик цыпленка, глянул скрученный туго, остренький листок — и ты уже счастлив. Ты выскакиваешь из подъезда и мчишься, ослепнув от щедрого солнца, ошалев от весенних ветров, от ботинок, впервые обутых после долгой носки валенок с галошами, таких легких, удобных, так звонко стучащих по земле…
Мы забросили деревянные мечи и щиты в темные углы сараев. Пришло время опасных игр. Может, все дело было в больших пачках спичек, завернутых в плотную коричневую бумагу, которые продавались в каждом киоске. Теперь мы играли с огнем.
Бока железнодорожной насыпи покрылись рыжими подпалинами По утрам по ним снизу вверх кралось рыжим котенком пламя. Прошлогодняя трава торчала бесцветными редкими вихрами. Огонь прыгал по ним, обрадованно вспыхивал и тут же падал, пропадал, но вдруг распускал хвост в нескольких сантиметрах выше — и так до песка насыпи, чтобы слиться с ним. Потрескивая, корчась, исходила ядовитым дымком молодая трава…
Под чугунным мостом, по которому без конца грохотали товарники и дважды — утром и вечером — мелькали белыми занавесками пассажирские скорые, гремели выстрелы. И я обзавелся пистолетом, сделанным из веретенного гнезда — стальной трубки с отверстиями у глухого конца. Мама недоумевала, куда деваются спички. Я помалкивал. Пистолет стрелял оглушительно, выплевывая обжигающую черную серу. Перед этим он шипел и урчал. С выстрелом игра прерывалась, но отзвуки его долго звенели в ушах.
В то воскресное утро мы тоже играли: Долька, я и Колька Могжанов. Он был не из нашего дома, но еще с осени прибился к нам — маленький, черноголовый, до отчаянности смелый мальчишка.
Мы только что отстрелялись и сидели под насыпью на согретой солнцем траве. Колька чистил ствол куском проволоки: почистит, подует, посмотрит, прикрыв один глаз и прищурив другой, и снова сует проволоку. Долька уже заново набивал пистолет спичечными головками. А мне не хотелось больше стрелять. Я лежал навзничь и смотрел на легкие облака, что стояли над нами. Мне казалось — Долька вот-вот зацепит одно из них своими ржавыми вихрами, и облако стечет по нему, как мыльная пена.
Я первый и услышал сначала голоса, затем нарастающее шуршанье за спиной. Скатившийся камешек пробежал в траве, словно серая мышь, Я перевернулся на живот, глянул по откосу вверх и увидел Венку Муравьева и еще одного человека — взрослого. Они спускались к нам, ставя ступни ребром, оскальзываясь на молодой гладкой траве.
— Долька, Муравей! — предупредил я, тут же вспомнив и драку с ним, и то, что он кричал нам вслед.
Долька обернулся, потом принял прежнюю позу и спокойно чиркнул спичкой по краю ствола. Головка осыпалась внутрь, черенок спички запутался в траве.
— С ним Дышло, — пробормотал он и пояснил — Дружок Мишки Комиссарова.
Я еще раз внимательней посмотрел на человека, сходившего к нам по откосу впереди Венки. Это был коренастый чернявый парень со щербатым, темным лицом. Я вспомнил, что раз или два видел его в нашем дворе, но не знал, что это и есть знаменитый Дошлов, известный больше как «Дышло». Наверно, он приходил на посиделки к Мишке Комиссарову, который после смерти матери жил один на первом этаже, как раз под комнатой Смирновых, и работал на фабрике электриком.
Дышло тем временем спустился на луговину и встал перед нами, расставив ноги в широких, куцых штанинах. На плечах его, внакидку, висел серый мятый пиджак.
— Привет, салаки. Все балуетесь? Папы-мамы вас мало дерут. Подымить есть у кого?
Колька мотнул головой. Я моргнул глазами от ударившего из-за плеча Дошлова солнечного зайчика. Долькина рука потянулась было в карман и застыла на полдороге.
— Некурящие?
— Врут они, — торжествующе предал Венка. — Эти-то не курят, а он, — Венка кивком головы показал на Дольку, — давно смолит, мне ребята говорили.
Дошлов присел рядом с Долькой, сорвал травинку, со свистом продернул ее сквозь зубы.
— Вот как. Чего же, браток, жмотничаешь? Покурим?
Долька сердито посмотрел на нас, мы удивленно — на него.
— Никому об этом, ясно?
И вытащил пачку «Спорта». Дошлов повеселел, и в глазах его, маленьких и глубоко сидящих, замерцала усмешка.
— Вот оно что. Своих застеснялся?
Он ногтями подцепил папироску за мундштук, достал зажигалку, прикурил и весь задернулся сизым дымком.
— А чего тебе их стесняться? Ты же у них за атамана, тебе все можно, потому как ты сильный. Я вижу, ты добрый парень, только не знаешь, чего тебе надо; то ли в Сибирь бежать, на медведя, не меньше, то ли носы им подтирать. — Он кивнул подбородком на меня и Могжанова. — Не спеши, узнаешь свою канву… А этот тебя — ох, не любит, — Дошлов стрельнул глазами на Венку, и Венка сразу встревожился, засуетился. — Дурачок. Ничего, поумнеет, — опять задержал тяжелый, какой-то мутный взгляд на мне и Кольке. — Ну, а вы, мальцы?