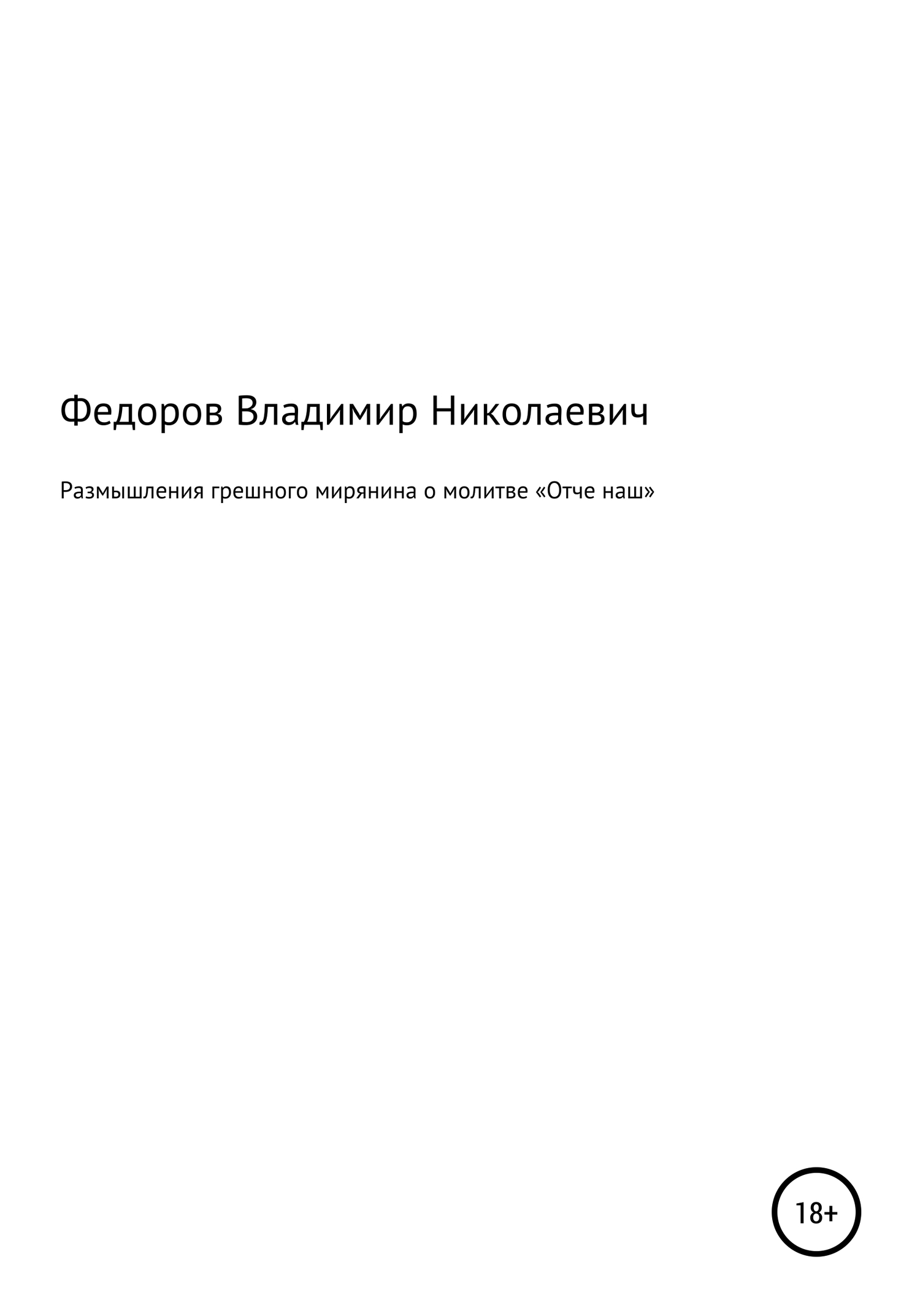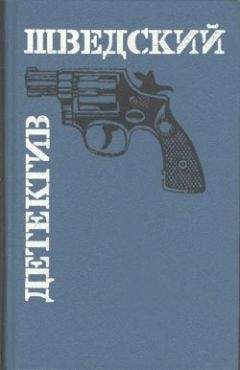неосторожный стук — и вздрогнет, вскинется малыш, зальется испуганным плачем.
— Давно уснул-то? — спрашивает Устинья Семеновна у вскочившей девочки.
— Как мама ушла — вскоре же…
Устинья Семеновна с минуту смотрит на спящего ребенка, потом уходит к печи, гремит заслонкой, выгребая из загнеты уголек. Отколупывает от стены кусочек извести, набирает в кружку воды, тихо что-то шепчет над нею.
— Отойдите-ка, — кивает застывшим у кровати Ксене и девочке. Шепнув пару слов, набирает в рот воды и внезапно шумно сбрызгивает спящего ребенка. Тот вскрикивает, испуганно смотрит на незнакомую женщину. Надрывный плач срывает с места Ксеню.
— Не тронь! — властно кричит ей Устинья Семеновна, поглядывая на мечущегося ребенка. — С криком порча-то и изойдет из него.
Ксеня застывает на мгновение, но не выдерживает судорожных всхлипов малыша, забирает его из кроватки.
— Н-да, видно, не только сглаз, еще какая-то болесть есть в нем, вишь как корежит-то, — замечает Устинья Семеновна. — Можно бы еще одно средствие попробовать, да… Дороговато, небось, тебе покажется? Помогало многим ребятенкам в таком-то вот виде…
— Не постою за плату, Устиньюшка, — шепчет плачущая Ксеня, укачивая малыша, и кивает дочери. — Люсенька, достань-ка там в шкафу две пятерки. Мой вчера получку получил на шахте, а зачем они, деньги-то, если… если… Сыночка б сберечь! Век не забуду, Устиньюшка, вот перед богом клянусь…
— Ладно, ладно, — отмахивается Устинья Семеновна от слезных обещаний Ксени, но хрустящие бумажки принимает, потеплев лицом. — Давай-ка пойло, что корове на утро сготовила? Где ведро-то?
Она зажигает фонарь, командует Ксене, державшей затихшего малыша.
— Айда! И его, его с собой бери!
Они выходят во двор, идут к темнеющему сараю. В нос ударяет резкий аммиачный запах, но Устинья Семеновна, посвечивая фонарем, наливает в корыто из принесенного ведра пойла и, склонившись над ним, ясно шепчет:
— …от встрешного, поперешного, от лихого человека помилуй, господи, раба твоего Ляксандра. От притки, от приткиной матери, от черного человека, от рыжего, от черемного, завидливого, урочливого, прикошливого…
Мрачно плавают в полутьме по стенам сарая вздрагивающие тени от жиденького фонарного света. И течет сухой, колкий шепот Устиньи Семеновны.
— …Запираю приговор тридевятью тремя замками, тридевятью тремя ключами. Слово мое крепко! Аминь.
Она машет рукой Ксене.
— Давай ребятенка-то сюда. Да разверни его, рубашонку-то сними.
— Холодно ведь, Устиньюшка, осень на дворе-то, — слабо сопротивляется Ксеня. Но ребенка разворачивает.
В глазах ее вспыхивают безумные блики, когда Пименова цепкими пальцами подхватывает голое тельце надрывающегося в плаче малыша.
— Бойся голоду, а не холоду, — приговаривает Устинья Семеновна, обливая ребенка пойлом. — На-ка, заверни его!
Сама идет к лежащей корове, равнодушно жующей жвачку.
— Вставай, вставай, милая! — пинает ее ногой. — Пусть она это пойло, а вместе с ним — и болесть всю — изопьет… Но, но, пошевеливайся…
От пойла, которое пьет корова, идет легкий парок.
— Даст бог — выздоровеет малец, а не поможет ежели… — Устинья Семеновна морщится. — Все в руках спасителя нашего. Ему теперь в сердце обращай молитву, Ксеня! Спаси, господи, раба твоего Ляксандра, спаси и помилуй безвинного за грехи наши тяжкие…
Колышутся и резко вздрагивают тени на стенах захламленного сарая — Устинья Семеновна забирает с пола фонарь. От дома, куда торопливо пробегает Ксеня, слышится громкий плач малыша.
Давно уже не стояла так подолгу перед зеркалом Татьяна Ивановна. Примеряла ярко-синее шерстяное платье — сняла. Очень уж тесно оно стало, того и гляди — лопнет по шву на располневших бедрах. Два года, пожалуй, не одевала это веселое платье, а раньше как оно ей нравилось.
Татьяна Ивановна вспомнила, что раньше на праздники одевала обычно не это, ярко-синее, а другое — густо-красное, удачно оттенявшее ее волнистые темные волосы. Чуть приталенное, оно подчеркивало удивительную женственность ее фигуры. Очень любил ее Николай в этом платье. Когда станут собираться в гости, едва оденет она это платье, пройдется перед мужем, смущенная, разрумянившаяся, не выдерживал он: вскакивал, но тут же замирал изумленно и разглядывал ее, молчаливый, притихший; а в глазах его она ясно видела вспыхнувшую нежность и горделивый блеск: вот она какова, моя дорогая женушка! Подходил к ней Николай, ласковый, улыбающийся, осторожно привлекал к себе и говорил, не стесняясь детишек:
— Видишь, какая ты у меня, горнячка? Люблю и налюбиться не могу…
Но сейчас Татьяна Ивановна, вспомнив Николая — живого, с этой нежной, любящей улыбкой — застывает над сундуком с густо-красным платьем в руках… Да, да, Николай, ты очень любил меня. А я вот хочу сейчас это платье надеть, чтобы пойти в клуб, где веселятся люди. Зачем? Не знаю… Может быть, просто потому хочется пойти, что грустно коротать эти длинные вечера одной. Все праздники так: за окном поют, смеются веселые люди, словно забот у них нет, а я — одна, сижу у окошка, смотрю на чужое счастье и с такой щемящей болью думаю о тебе! И злюсь, даже готова отшлепать ребятишек, если меня чем-нибудь растревожат… Ты думаешь, я могу изменить тебе в сердце, если пойду в клуб? Так думаешь? Что ж, я не пойду… Конечно, я не пойду туда, мне уже просто не хочется.
Татьяна Ивановна кладет памятное платье поверх других, захлопывает сундук и встает, задумчиво посматривая в окно.
— Мама, ну что он мешает? — доносится плаксивый голос одной из дочерей-близнецов, Зои.
Татьяна Ивановна оборачивается. Ее любимец, Мишенька, замер в воинственной позе перед девочками, разложившими в углу свое кукольное хозяйство.
— Миша, перестань, — устало говорит Татьяна Ивановна, потом переводит взгляд на настенные часы и вздрагивает: без пятнадцати минут девять…
«Надо собираться! — торопливо решает она, стараясь не думать о своем недавнем мысленном разговоре с Николаем. — Нехорошо получится, если не пойду».
Она бросается к сундуку, выхватывает оттуда платье, берет уже изрядно перегревшийся утюг и начинает спешно разглаживать слежавшийся материал.
— Мама! Опять он…
— Отстаньте вы от меня! — сердито отмахивается Татьяна Ивановна. — Миша, перестань! Иначе пойдешь в угол…
Мишенька скучающе проходит по комнате, стоит с минуту возле матери, наблюдая за ее торопливыми движениями и снова направляется к сестрам. Но тут же оборачивается, восхищенно смотрит на мать, которая уже оделась и стоит перед зеркалом. И она с мгновенной гордостью воспринимает этот взгляд сына, зная: да, в этом платье она кажется Мишеньке необычно нарядной. Он ведь ни разу не видел ее в нем.
— Мама! А с кем ты пойдешь в клуб? — неожиданно спрашивает он.
Татьяна Ивановна изумленно смотрит на сына. Откуда ему известно, что она идет в клуб? И почему он задал ей такой вопрос? С кем?
— А что, Мишенька?
— Так…
Глазенки скучные, строгие.
— А тебе не хочется, чтобы я уходила? — ласково спрашивает мать.
Миша кивает