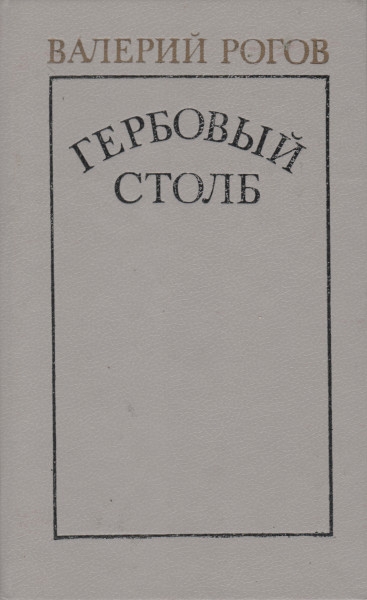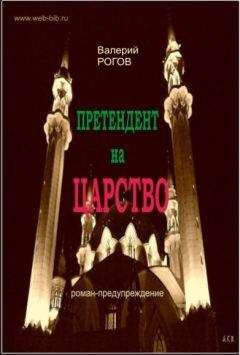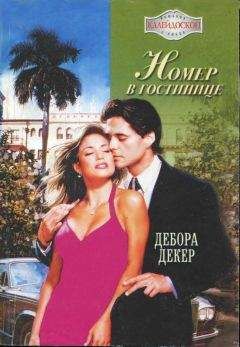не было. Будто бы
вся жизнь была
там, на войне, и ничего потом. И вновь возникла совсем недавно, ну месяца два, как пришла эта черная весть: при исполнении служебных обязанностей трагически погиб... А ведь он его уже любил — тайно и гордо, как сына. С какой надеждой заглядывал в его будущее. И вдруг такое нелепое: Толик погиб... А
он есть! Зачем? Зачем он-то? Он уже принадлежит прошлому. Его взлет — война. Там он жил со смыслом. Вся грудь в орденах. Не было такого боя, чтобы его не награждали. Только в самом последнем под Люблином — ничем...
Зачем он убил того власовца? Сегодня ночью тот вдруг явился: ухмылка презрительная, в глазах торжествует мщение: «Ну что, сосчитаемся наконец?» Стоит уверенный, как палач, и цедит: «За что убил-то?»
Кошмар под утро случился. Вскочил, вроде глаза продрал, а тот не уходит. В предрассветье — как наяву, как живой. И уже злобно ему: «Зачем убил-то, сука?» На балкон выскочил, в холод, а тот невесомо за ним, и опять напротив. Усмехается мстительно: «Что, испугался, герой?» А он глупость порет: «Я ж из-за тебя третью «Славу» не получил». А тот давит, чувствует превосходство: «Боишься, гад? Зажился на свете. Зажился, сука!» И тогда он вспомнил. Вот только тогда он вспомнил и вспылил, как там, под Люблином: «Да ты же, сволочь, два танка подбил! Ты же своими фаустпатронами два! сволочь! два! танка сжег. Три человека погибло, и все остальные — обожженные. Убью-ю‑ю!» А тот ухмыляется: «Ну, убивай! убивай!»
С ума можно сойти, сдвинуться...
А утро-то какое было — странное, будто нездешнее. Никогда не видел такого утра. Всю жизнь прожил в Ялте, а не видел такого чужого, страшного утра. Небо было фиолетовым, как чернила. А над ялтинской грядой — серые обрывки облаков, как рожицы чертей. И такая неподвижность, неправдоподобная тишина, будто нигде ничего живого. А воздух остекленел и прозрачен, как гигантская линза. Горы придвинулись вплотную: на рыжих склонах не то что деревья видны, а на тропках — каждый камень, сушняк, жухлый лист. А чаша моря смертельно бледная. Оно застыло, словно оледенело. Скользи к краю, туда, к сизым вздыбам на горизонте, ну точь-в-точь повторяющим хребтовую яйлу, — рукой подать. Пугающе зябко, холодит. Сердце сжало, не разожмешь...
Ну вот, Вдовин, и к тебе подступила вечность... Надо что-то делать. Надо! Бежать от мрачных воспоминаний. Скорее на волю, к людям, скорее!..
Вдовин потеплее одевается, берет лески, катуш с червями. Спускается торопливо под гору, к набережной. На причале против гостиницы «Таврида» уже сидят двое. Это сразу успокаивает.
Нет, не один он мечется по ночам. Не один, выходит, мается бессонницей. А рыбалка — вовсе не промысел, а как лечение. Так, правильно...
Хорошо, что он один сейчас. Жена в Запорожье, у дочери. Не знает, что с ним творится. Она бы все равно ничего не поняла. Осудила бы молча. А может быть, и не молча. Она никогда его не понимала. Давно уже равнодушны, привыкли друг к другу. А осудила бы, то он вспылил бы. Она боится его ярости. Но все равно он сорвался бы. Месяцами молчит, да и срывается вдруг. А потом, конечно, стыдно, ну и напьется. И опять свинцовый штиль в доме, насупленность, отчуждение. Сколько уже лет? А‑а, много лет. Вот Катьке будет тридцать, а она не сразу у них родилась. У нее уже две дочки, его внучки. А ничего не изменилось...
Если бы он умел с ними говорить! Нет, не с Катькой даже, а хотя бы с Оксаной, с женой. Но та горда, ох, как горда! Не сумела его подчинить себе и всю жизнь бессловесно злится. Сколько же нужно терпения?! А у него? Никогда он ей ни на что не жаловался. Никогда и она. Поэтому-то он целыми днями при машине, без выходных. Не любит дома. Ее дома! Сына она ему не родила. Вообще, кроме Катьки, никого не захотела рожать. Не захотела — и все тут! И внучки не его, а ее с Катькой да запорожской родни. И не возвращалась бы!
Эхма, вроде отпускает сердце?..
Вдовин втыкает заостренные алюминиевые трубочки в бревно причала. Сквозь них продета леска. На выходе закреплена на красных резиновых язычках. Если клюнет — рыба ли, краб, язычок затрепещет. Тут и готовься подсечь. На крючки он насаживает евпаторийского лиманного червя. Мог бы, конечно, и поизысканней наживу приготовить. Скажем, куриного мяса от хребтовой кости, бараньей или говяжьей селезенки, без пленки, конечно. Тогда бы мог ловить на удочку. И даже редкостную, нежнейшую рыбу — смориду. Удивительная рыба! Через три-четыре года самка превращается в самца. Из черно-серебристой становится разноцветной, красивой, как радуга...
Но с удочками хлопотно. Лучше уж на закидушку — леска, грузило, крючки и для удобства вот эта алюминиевая трубочка с резиновым язычком. Чулары он обязательно натаскает...
Улыбается, качает головой.
Мужики-отдыхающие никак в толк не возьмут, что такое чулара? А это самая что ни на есть кефаль! Просто уж местные, ялтинские, делят кефаль по размерам: чигирёк — с палец, возвращай в море; чулара — с ладонь, эту бери; ну, и само собой, полновесную кефаль. Эх, попался бы прозрачный пескарик! Лучшей наживы на ерша да окуня не придумаешь. Тут и сам господин краб выползет из камней, чтобы полакомиться.
Да, не случайно говорят, что рыбалка успокаивает. Все-таки не один, с людьми. Вон еще подошли. Пока каждый замкнут: сам с собой. У всех свои думы. Их надо прокрутить до появления похмельных отдыхающих. Мало ведь кто любит за спиной сопенье, приставанья...
Леска, намотанная на палец, резко затянулась, до боли. Огненно трепетал алый резиновый язычок. Вдовин быстрыми движениями вытянул закидушку. На крючке трепыхался, извиваясь, большеголовый — головища в полтуловища! — панцирный, черно-крапчатый ерш. Укололся до крови, снимая с крючка. Сунул в целлофановый мешочек. В прозрачном плену тот бешено извивался, подпрыгивал, не мирясь с заточением, не сдаваясь.
Алые язычки — алые крылья. Как бы красиво Толик парил над белесой гладью моря! Вот он взвивается, делает круги, кружит над Ялтой, скользит вдоль берега. Как архангел. Как серафим... Какие хорошие стихи передавали по радио. Поэта Александра Блока. Слова прямо летели ввысь. Как невесомые пушинки, как осенняя паутинка. Там красиво сказано: серафим летящий распростер крыла. А мне Толик виделся. А что? Чем Толик не серафим? Он