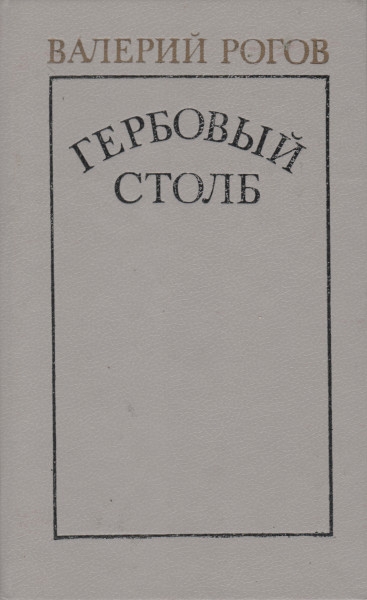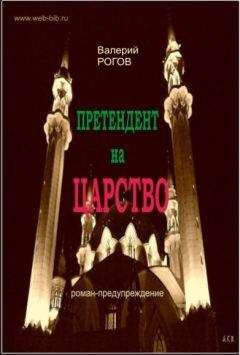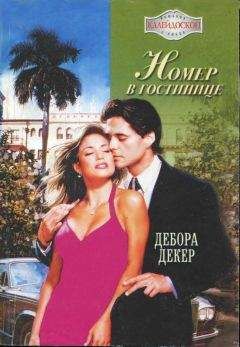чистым ушел, безгрешным. Точь-в-точь по божеской легенде. Но дело разве в этом? Он мечтателем был, светился мечтой. Он хотел человека летающим сделать. С крыльями. Разве смешно?. Не‑е‑т, все правильно. Ну, скажем: когда-то изобрели велосипед. Потом автомобиль. Все это теперь обычное. Ну, вот: надо так же
по-обычному летать. Разбежался — и полетел!
Неужели добьются? Неужели Толик вдруг бы да и добился? А что? Он бы мог...
Улыбается благостно, воспоминательно.
Потащил их с Володей Греком в горы, на озерцо. Весной, в самое пробуждение. Показывал жучков, как-то их называл, но разве запомнишь? Да и разве в этом важность? Важность в том, что жучки эти — такие черненькие бугорки — не только по земле бегают, по воде плавают, ныряют и под водой не хуже лягушек или даже рыб носятся, а главное, когда им нужно, взлетают и летят, как настоящие шмели или те же мухи. Раскрывают свою черную скорлупу, выпускают слюдянистые крылышки и ж‑жи, понеслись по воздуху. Удивительно! А ведь сколько раз видели, но никогда не задумывались. А Толик говорил: почему же и человеку не быть таким? Вот о чем он мечтал! Странно как, а? В самом деле: удивительно мудро в природе! Ну зачем этому жучку еще и летать? А он летает! Все может... Нет, в голове не укладывается. Мудрено. Но откуда же так? Сколько в школе разъясняли про эволюции, превращения. И непонятно осталось, и потом не прояснилось. Потом и не думали — война. Впрочем, нас и не учили думать. Учили принимать все так, как есть, и делать, как сказано. Хорошо будешь делать, в почестях заживешь. А что там да почему, какие еще жучки с пташками, какие еще предсказания — чушь, мистика. Какой еще Бог, когда нам сам черт не страшен. Сами в чертей превратились, на войне-то. Какой вздор в голову лезет, черт-те что...
А Толик? Он, конечно, и о жучках думал, но мыслил-то о другом. Мечтал! Нет, разве мы ему не поверили? Поверили! А потому, что представить можно! До чего же он додумался? Дух захватывало, когда изображал. А ведь совсем просто! Потому что сделать можно. Значит, так? Идея реактивных крыльев. Сложил их вверх, как ракету, дал газку и взлетел. Крепятся они как бы на пирамиде, чуть срезанной. Ну это и человеку удобно. Взлетел, крылышки распластал и пари. Хочешь, газку поддай. В общем, летай сколько хочешь. Тут уж и с горы незачем бросаться...
Вот о чем мечтал наш Толик, серафим наш краснокрылый... Эхма, чувствительный стал... Но не стыжусь слез... чего уж теперь?
— Здравствуй, Толя. Рыбку ловишь? — буркнул кто-то сбоку.
Взглянул: Володя Грек. Невыспавшийся, небритый, лицо опухшее. Припух даже большой горбатый нос, чуть скошенный набок. В меланхолических навыкат глазах — вселенская тоска. Ему бы, конечно, опохмелиться. Сказал тихо:
— Садись. Посидим.
Около его ног нетерпеливо взвизгнула верная Володина подружка — Веста. Это была красивая сука из породы спаниелей: черно-серая, вислоухая с понятливейшими глазами. Она, зачастив хвостом, тонко взлаяла, как бы жалуясь.
— Ну чего ты, Весточка? Что случилось? — гладил ее Вдовин. «Вав, вав», — жаловалась та. — Чего случилось, Володя?
— А-а, опять, — махнул тот рукой, опускаясь на корточки. — Опять не пустила, понял! Женщина — сто чертей! Разоралась: нажрался и спи с собакой! А у самой полон дом торговок, понял? С Кировоградчины наехали. Ну, я опять с Вестой в сарайчике. Она тебе жалуется, понял? А ты, Толь, как — опять за рулем?
— Да. В два часа повезу гостей в Симферополь. К поезду...
— Чего в такую рань сегодня?
Рассказать ему, что ли? Или уж в себе таить? Ему можно: он болтать не станет.
— Бессонница мучает, — говорит Вдовин. — Сны снятся. Всякие гады являются. Прямо кошмар. Как живые, веришь ли?
— Кто же, Толя?
— Один гад, власовец. Помнишь, я тебе рассказывал? Который наши два танка сжег? Ты меня еще спрашивал: когда я на легковушку пересел?
— А-а, это тот, который фаустпатронами стрелял, — скучающе вспоминал Грек. — А мне сны не снятся. Ничего не снится. Сразу засну, и уже утро, понял?
— Это хорошо. А я, понимаешь, никогда не боялся, а тут страшно бывает. Знаешь, их эсэсовцы цепями приковывали. В бункерах-дзотах. Как зверей. Они и зверели: все одно смерть. Злее самих фрицев дрались. От отчаяния. Ну вот. Этот гад два танка сжег. Я когда прибежал в бункер, там уже пехота толпилась. И один усатый дядька спрашивает того: ты чего же, сволочь, против своих-то? А он забился-в угол, смотрит злобно и цедит: «Стреляйте! Все равно ненавижу». Ну я сгоряча и всадил в него.
Вдовин помолчал.
— Понимаешь, у нас-то пятеро обожженных. Этот самый фаустпатрон — он же термитный. Так и прожигает броню. Один экипаж почти весь сгорел. Молоденькие оказались: не знали. Понимаешь? — Опять помолчал. — Ну вот: я и прикончил этого гада. Но не сразу. Голова у него упала, а сам еще живой, на руку опирается. А из-под рукава — черного, фашистского — дымит струя крови. А на руке, вижу, синим выколото: Ваня, 1922 г., Ростов н/Д. Ну вот. А усатый, значит, сплюнул и презрительно говорит: «Эх ты, герой». И всем: «Пошли, ребята, подальше от греха». А я, значит, один на один с этим убитым. А он, гад, еще не совсем мертвый. Думаю: дострелить? Но рука уже не поднимается. А этот самый Ваня из Ростова, предатель, вдруг голову поднимает, смотрит на меня, плача, — в глазах слезы, и хрипит: «Убил... убил».
Вдовин вздохнул. Молчит. Потом опять, как бы оправдываясь:
— За самоуправство, ты ведь знаешь, меня к третьей «Славе» не представили. Ну, да ладно, я ведь не об этом, я о другом. После войны он, бывало, приснится. Даже не сам, а рука его в крови, с наколками. У меня в Ростове друг после войны поселился, все звал в гости, а я, понимаешь, никак не могу ехать. Ну, а потом все забылось. И вдруг в эту ночь вновь явился. Весь как наяву. Как ты передо мной. И говорит: «Зачем убил?» И еще нагло усмехается. Зажился, говорит, сука, на этом свете. Ты понял, Володя? Вот какое дело. К чему бы это?
— А к чему? Бессонница,