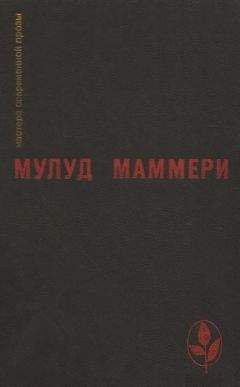Но ты меня знаешь, я из тех, для кого главное не успех, а упорство. И я продолжаю упорствовать. Я готова примириться с тем, что они откажут мне в том или ином документе, связанном с нефтью, но не могу простить им, что сегодня вечером я лишилась из-за них Зеральды. Я чувствую себя обманутой. Это напоминает мне мои детские наказания: сегодня вечером ты не пойдешь на пляж! Остается надеяться, что дело поправимо, если, конечно, ты этого хочешь. Ave!»
Мурад сунул письмо в карман. Он постоял в раздумье, потом, вместо того чтобы подняться по лестнице, направился к выходу.
— Вы снова уходите? Что-нибудь забыли? — спросил консьерж.
— Я забыл напиться, — сказал Мурад.
Консьерж смотрел ему вслед, неодобрительно качая головой.
Мурад остановил такси и велел отвезти себя к Кристине. Она была дома одна.
— Я как раз набирала твой номер. Мне только что звонила Амалия. Она сейчас в редакции. Она оставила тебе записку, но боится, что ты не заедешь домой. Она просит извинить ее за сегодняшний вечер.
— Я знаю. У тебя есть виски?
— О! Так это, значит, серьезно. Из-за несостоявшегося свидания? Поздравляю тебя. Ты еще молод. Но ты ничего не рассказал мне про Тассили!
— Все сказано в путеводителе, только, разумеется, в лучшем изложении.
— Все, кроме главного… вероятно?
— О главном не расскажешь.
— Тем хуже. Стало быть, мне не узнать, почему у тебя такой вид.
— Это моя последняя ночь здесь.
— И ты собирался провести ее с иностранкой?
— А разве Зеральда не в Алжире?
— Возьми меня с собой, — сказала Кристина.
— Ты не захочешь.
— Тебе не нравятся эрзацы?
— Думаю, что тебе не понравится роль дублера.
Мурад встал, пошатываясь.
— Куда ты?
— В «Тамтам».
— Может быть, тебе лучше зайти в редакцию…
— Это идея.
Она помогла ему спуститься с лестницы.
В «Тамтаме» почти никого не было.
— Даже Рыжего нет? — спросил Мурад.
— Днем он делает вид, что ищет работу вместе с Безработицей, — сказал Балтазар.
Мурад пил в одиночестве. Балтазар издалека поддерживал с ним беседу, но Мурад улавливал только обрывки фраз. Наконец он встал. Балтазар едва успел поддержать его, чтобы он не упал.
— Что-то ты перебрал сегодня. Неприятности?
— Завтра я покидаю вас, — сказал Мурад.
— Сегодня вечером еще зайдешь?
— Ни за что! У тебя здесь скука, а это — мука… гадюка… злюка… и… и штука.
— Да ты на ногах не стоишь! Куда же ты теперь?
— В редакцию.
— Подожди, я позову такси.
В баре по соседству с «Альже-Революсьон» собралась почти вся команда редакции. Мураду оказали шумный прием.
— Уже набрался?
— Наверное, с горя, что покидает нас.
— Так оставайся с нами.
— Неплохо для начала, — сказала Суад. — Ну что ж, Буалем, не пропадать же тебе в одиночестве.
Мурад проследил за взглядом Суад. В глубине зала Буалем сидел один, склонив голову на мрамор столика.
— Браво, старик, — сказал Мурад.
Буалем пробормотал что-то невнятное, обращаясь, по-видимому, к стакану, который держал в руках.
— И так с самого утра, — заметила Суад. — Сахара не пошла ему на пользу.
— Это от солнца, — сказал бармен, — скоро пройдет.
— Всему виной джинны Сахары.
В первый же вечер после своего возвращения Буалем поспешил на урок к учителю. Он собирался рассказать его ученикам о своей поездке и, главное, предостеречь их, ибо не оставалось сомнений в том, что тлетворный дух завладел пустыней пророков. Братья не знали этого, они успокаивали себя тем, что в городах есть, конечно, маленькая горстка людей пропащих, научившихся думать и жить на западный манер, но верили, что в глубинных районах страны народ хранит первозданную чистоту, а это, оказывается, было заблуждением. Буалем знал, какое опустошение произведет это откровение в сердцах учеников, и мучился вопросом, как лучше сообщить им об этом. Но разве верующий выбирает форму джихада, который ему выпадает? Жестокость тоже может послужить во славу творца.
Едва переступив порог, он сразу почувствовал устремленные на него горящие взгляды учеников. Начал он с привычных формул:
— Хвала аллаху, господу миров!
— Хвала ему, — вторили ученики.
— Молю его о помощи против злокозненного дьявола…
Ученики несколько раз испросили прощения у творца.
— Слава ему, — продолжал Буалем, — есть еще края, где чтут его святое имя, где люди готовы жить для него и умереть за него, где властвует дух джихада.
Буалем и сам не знал, почему сказал такие слова, ведь готовился он совсем к иному. Может быть, просто по привычке, а может быть, потому, что другие слова были бы недоступны пониманию учеников? Он произносил фразы одну за другой, словно под диктовку. Его увлекала их властная и сладостная музыка. Величавость слов вызвала в памяти поэтические строки, которые, мнилось ему, были забыты. Чудесные видения породило его воображение, он описывал их так, словно все это происходило у него на глазах. Под конец, увлеченный красочными образами, возникшими из тьмы, он громовым голосом принялся скандировать стихи Корана, словно желая запечатлеть их золотыми буквами на челе ночи.
Внезапно он умолк. Слезы текли по его смуглому лицу, он и не пытался скрыть их от учеников. Когда, очнувшись от своего ослепления, ученики стали наконец задавать ему вопросы, Буалем воззрился на них потерянным взглядом, разглядывая каждого по очереди, будто не узнавая. Затем ответил тусклым голосом: какое отношение могут иметь низменные вопросы относительно числа верующих или изучения Корана к тем достославным видениям, что явились его потрясенному взору и глубоко взволновали его сердце? Сам он уже воспарил над этой бренной землей, где следует пересчитывать людей и заставлять их при помощи ударов линейкой внимать слову творца.
Ученики сочли его равнодушие следствием усталости и перестали докучать ему. Затем слово взял учитель.
Но больше всего Буалема ужасал неясный страх, от которого ему никак не удавалось избавиться, ибо на этот раз урок учителя не оказал на него должного воздействия. Прежде слова Гима увлекали его, точно морская волна, которая, захлестывая, баюкала, очищала от всех сомнений и тревог. А теперь — никакого утешения.
Буалем вышел на улицы города с таким чувством, словно его прибило одного к берегу пустынного острова. Он делал ставку на обещанную надежду, уверовав с закрытыми глазами в платежеспособность поручителя. Его не следовало держать в постоянной боевой готовности, он — неусыпный страж — сам поддался теперь сомнениям.
Сомнение зародилось в его душе после первых же слов учителя. Ведь он, Буалем, знал, что торжествующий глагол был гласом вопиющего в пустыне. И, по мере того как учеников охватывал восторг, он изо всех сил пытался подавить теснившиеся у него в мозгу вопросы, но безуспешно: снова и снова одолевало ненасытное сомнение. И теперь оно, словно приноравливаясь к ритму его шагов по улице Дидуша, поставило последний вопрос: а что, если творец просто-напросто надул его?
Эта кощунственная мысль преследовала его как наваждение, и он очнулся только тогда, когда заметил, что очутился перед отелем Амалии. Он понятия не имел, каким образом ноги сами привели его туда, и быстро стал искать благовидный предлог, убедив себя в конце концов, что пришел за документами, которые когда-нибудь могут понадобиться ученикам. Но Амалия ушла куда-то с Сержем, и никто не знал, когда она вернется. Буалема мучили угрызения совести, и в то же время он был зол, только не знал в точности, на кого. По счастью, у него оставалась надежная гавань.
Быть может, то, чего не могло свершить утратившее свою непререкаемость слово учителя, смогут осуществить толстые, надежные стены его родного дома… Буалем бросился туда.
Он оторвал жену от стирки, над которой та усердствовала, и, сам не зная почему, начал ей долго и нудно рассказывать о благодати, снизошедшей на женщин с той минуты, как пророк освободил их от рабства и невежества. Хайра растерянно смотрела на него: ведь обычно Буалем адресовал ей всего несколько коротких слов — молитвы, книги, собрания с братьями или в редакции заполняли все его время. А ночью он избавлялся от своей неистовой ярости, как от плевка.
Когда он умолк, оба они старались не глядеть друг на друга. Хайра торопилась вернуться к стирке, но в то же время чувствовала, что следовало что-то сказать, но что именно — она не знала. Она мучительно искала, но, так ничего и не придумав, пустилась в разговоры с таким чувством, как будто бросилась в воду. Главное — говорить, говорить без умолку, не дать опуститься пелене молчания, в которой они рискуют увязнуть вновь, снова обреченные каждый на безысходное одиночество.
Она принялась перечислять день за днем, которые впервые после свадьбы ей довелось провести одной. Рассказывала о болезни младшего сына, о бесконечных очередях в диспансере, о том, как она ходила за овощами, о переполненных троллейбусах. Хайра не осмелилась ему сказать, что в первые дни ей было страшно, но что потом она быстро освоилась и ей понравились эти необычные дни, когда она вдруг почувствовала, что существует… без него, сама по себе.